|
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
В небольшом городе Эльче, что находится в Валенсии, на пересечении улиц Маркиза Молина и Маэстро Серрано висит мемориальная доска с надписью: «Dichoso el que muere antes de haber enseñado el limite de su grandeza» (Блажен кто умирает раньше, чем выкажет пределы своего величия». Эти слова принадлежат Мануэлью Асаньа Диасу, автору предлагаемой вашему вниманию повести «Сад монахов». Мануэль Асанья, противоречивая фигура в истории Испании. Он президент Второй республики Испании, политик, писатель, драматург. В разгар гражданской войны 18 июля 1938 года Асанья выступил с речью в мэрии Барселоны вошедшей в историю под названием «Три «P» - Paz, Piedad, Perdón (Мир, милосердие, прощение), в которой президент призывал противоборствующие стороны к миру, однако не был услышан ни той, ни другой стороной. Гражданская война достигла своего апогея, и каждой из сторон казалось, что вот еще одно усилие и победа будет за ней. О каком мире и милосердии можно тогда говорить. Не случайно обе стороны в одинаковой степени ненавидели автора призыва к миру, так и не примкнувшего ни к одной из сторон конфликта и вынужденного через полгода покинуть Родину, подав в отставку со своего поста.
Мануэль Асанья-и-Диас (Manuel Azaña y Díaz) родился 10 января 1880 года в городке Алкала в провинции Мадрид, в состоятельной семье сельских буржуа. Рано осиротел, воспитывался у родственников. «В доме царят бездушие, нескончаемая брань, мрачное сиротство», - так описывает свое тогдашнее положение Асанья. Не лучше обстояло дело и в местной школе, куда был он отдан на учебу. Здесь господствовала палочная система, монотонная зубрежка. «Над Комментариями Юлия Цезаря ученики проливали слез больше, чем сам полководец пролил крови на земле Галлии» - писал Асанья. Об учителях он пишет, - «это были случайные люди, глумящиеся над неподатливой детворой, или подвергающие их наказанию, если злость за неудавшуюся жизнь внезапно ударяла в голову».
Вскоре родные устроили мальчика в монастырскую школу ордена августинцев в Эскориале. Это были трудные годы становления личности, характера, индивидуальности Асаньи. Обо всем этом Асанья и пишет в своей повести. За годы учебы его религиозные воззрения претерпевают существенные изменения – от экзальтации всего, что связано с верой до полного отказа от религии и уходом из школы.
Асанья уезжает в Мадрид, где проводит праздную жизнь, граничащую с распутством. Вскоре поступает в университет Сарагосы и оканчивает его в 1897 году со степенью лиценциата. В 1900 году защищает докторскую диссертацию в Центральном университете Мадрида и получает степень доктора права. Работает помощником адвоката, затем чиновником в Палате регистрации и нотариата.
Первая мировая война застает молодого правоведа во Франции, куда он уехал в 1910 году продолжить свое образование. Асанья не остается в стороне от событий, он работает военным корреспондентом. После войны возвращается в Испанию и начинает заниматься политической деятельностью. Первые шаги на этом поприще оказались не очень удачными, ему даже не удалось стать депутатом Кортесов.
Он занимается журналистикой. Был редактором журнала «Pluma» (Перо) и «España» (Испания). Одновременно много пишет. В 20-е годы становится известным писателем. В 1926 году он удостоен Национальной премии по литературе за повесть «Жизнь Хуана Валеры». Она была издана в 1957 году в Советском Союзе. Тогда же выходит в свет его повесть «El Jardín de los frailes» (Сад монахов) и позже уже в 1934 году повесть «La invención del Quijote y otros ensayos» (Находчивость Кихота другие его испытания). Одновременно Асанья переводит Джорджа Борроу, Бертрана Рассела, Стендаля, пишет критические статьи по литературе.
В 1926 году Асанья один из создателей партии «Республиканское действие» основной задачей, которой является борьба с монархией. В апреле 1930 года после свержения монархии Мануэль Асанья становится военным министром, а с октября того же года по сентябрь 1933 года премьер-министром. Правительство Асаньи проводит аграрную реформу и реформу образования, в рамках последней в Конституцию был внесен пункт об отделении церкви от государства и школы от церкви. Это позволило открыть в стране большое количество светских школ. Была проведена реформа в армии, сокращенны генеральские должности, закрыты ряд военных образовательных учреждений, в том числе военная академия в Сарагосе, которой руководил Франциско Франко, будущий глава мятежником и вождь Испании.
В ноябре 1933 года левоцентристкие силы возглавляемые Асаньей потерпели поражение на выборах и он ненадолго уходит из политики. Пишет книгу «Во власти и в оппозиции». Основывает новую Левореспубликанскую партию. Арестован по обвинению в призыве к восстанию в Барселоне с целью создания независимого государства и вскоре освобожден судом. Эти события он описывает в новой книге «Мое восстание в Барселоне».
В феврале 1936 года на выборах одержал победу Народный фронт, одним из лидеров которого был Мануэль Асанья. Ему предложили пост премьер-министра в правительстве, который он занимал до мая 1936 года, когда стал президентом Испании. В июле 1936 года начинается Гражданская война. Должность президента стала номинальной. Асанья не мог влиять на положение дел. Он не смог найти общий язык с премьерами-социалистами. В это время пишет книгу «La velada en Benicarló» (Вечер в Беникарло) в которой описывает конфликты в правящей верхушке мешающих единству республиканцев.
18 июля 1938 года он выступает с речью в мэрии Барселоны, (с которой мы начали экскурс в его биографию), в которой требовал перемирия и выступил с лозунгом «Мир, милосердие, прощение». Однако не был услышан. В феврале 1939 года республиканцы уступили Каталонию мятежникам Франко и Асанья эмигрирует во Францию, где скончался в ноябре 1940 года он тяжелой болезни.
Примечательно, что перед смертью Асанья попросил причащения и епископ Монтабана, небольшого городка расположенного недалеко от Тулузы причастил Мануэлья Асанью, вернув его этим актом в лоно церкви, которую взбунтовавшись, он покинул еще в годы своей юности. Об этом писатель подробно пишет в своей повести «Сад монахов».
Сад монахов это не вымышленное автором место, а действительно существующий и поныне сад, образец парковой архитектуры 18 века, примыкающий к Эскориалу с южной и восточной сторон и состоит из трех частей, общее название которых «Королевский сад». Сад, у Галереи выздоравливающих называется – «Сад выздоравливающих». Он предназначался для прогулок больных школяров. Та часть сада, что примыкает к стенам монастыря, называется «Сад монахов». И, наконец, третья часть сада находится под окнами резиденции короля и поэтому называется «Сад короля». Последний был закрыт стеной от других садов, хотя имел проход с аркой, по которому можно было в него попасть и монахам.
Асанья, выросший в сельской среде очень любил природу. В свободные от учебы часы, когда другие школяры резвились в играх, он предпочитал уходить в окрестные поля, лес, а чаще всего в сад. Здесь он мечтал, раздумывал, репетировал свои речи для диспутов. Саду он поверял свои секреты и чаяния, спрашивал совета, принимал важные для себя решения. Сад играл важную роль в жизни юного Асаньи и, не случайно вернувшись в Эскориал через несколько лет после своего ухода, он вновь ведет нас в Сад монахов.
Повесть посвящена юным годам проведенных в школе августинцев в Эскориале. Писатель подробно описывает состояние подростка в условиях жесткого религиозного воспитания. Этого, в конечном итоге, не выдерживает свободолюбивая натура Асаньи и он порывает и с религией, и со школой. В книге описываются переживания связанные с переходным периодом, пробуждение чувства прекрасного. Много внимания уделяет автор пейзажу, который становится яркой декорацией к его тексту. Не обошел автор вниманием и тему испанского патриотизма, историю своей страны горячо любимой им Испании.
Книга «Сад монахов» предназначена, прежде всего, для думающего читателя, она описывает не приключение или любовные сцены, а судьбу молодого человека, стоящего перед выбором, кем и каким быть. Автор ставит и дает ответы на важные вопросы религии и религиозности, патриотизма и национализма, образования, истории официальной и реальной, милосердия и гуманизма.
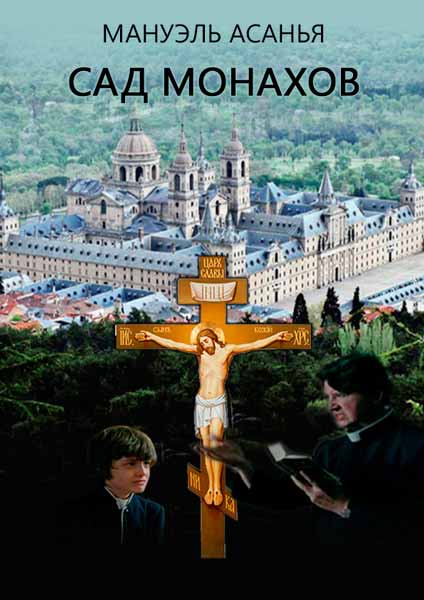
Пролог
Добрая часть Сада монахов была опубликована, с некоторыми сокращениями, в журнале «Ла Плума», еще шесть лет назад, так что это уже старое произведение. Прежде, чем оно полностью устарело я, не без робости, издал ее отдельной книгой. Каких-либо причин прерывать работу над повестью в процессе ее написания у меня не было, как и нет сожаления от ее публикации, если вообще таковое необходимо для появления книги. Я только хотел открыть друзьям, оказавшим мне честь прочитать ее, тайну обезличенной исповеди. От друзей я требую слишком многого, включая, читать книги, а не охаивать их. Вместе с тем, надеюсь, что эта книга поможет им в жизни.
Когда критическое отношение к жизни преобладает над человечностью, то молодой человек непременно потерпит неудачу, если трудные и серьезные невзгоды жизни накладываются на легкомысленные развлечения в школе. Подобное происходит в моем рассказе. Набрасывая план содержания, я думал, что это будет нечто личное и, не ссылаясь на отсутствие литературного таланта (с этого ли надо начинать), просто, стал записывать свои воспоминания. Я ни в чем в них не признаюсь. Они, как лучи отраженные от далеких облаков, которые рассеявшись, уже никогда не соберутся вместе, в прежнем положении. Эта книга безучастная ревизия прошлого, монолог неизвестного заключенного. У него нет имени и лица. Он, просто символ. Тому, кто намерен потратить свое милостивое внимание для чтения этой книги с пользой для себя, не стоит сосредотачиваться на этом символе. Разумеется, нелегко будет понять его смысл, суть которого состоит в том, что в нем вы узнаете некоторых своих одноклассников по школе.
Я поставил себе главную цель – быть преданным своему делу, считаясь при этом, ценой своего самолюбия, с чувствами юноши 15-20 лет, его неумелым и непонятным мышлением, такого напора и напряжения, которые бы в другой душе могли привести к трагическим последствиям. Мне он не по нраву, со своей склонностью к эгоизму и прошедшему времени. Мне жаль эту искреннюю молодежь, невежественную в своей добродетели, думающей только об утехах, в которых кроется корень их будущих неудач.
Больше ничего не скажу. Кто не лелеет надежду, что пишет для смышленых людей!
Мадрид, декабрь 1926 год
Сиприано Ривасу Черифу[Коллега, друг и брат жены Мануэлья Асаньи.]
I
Впервые я услышал о Шлегелях[Братья Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель (1772—1829) — немецкий писатель и поэт, критик, философ, лингвист и Август Вильгельм фон Шлегель (1767—1845) — знаменитый немецкий критик, историк литературы и поэт-переводчик], в Верхнем Эскориале, в один из осенних вечеров, лет так двадцать назад. Это были не соседские сплетни Сан-Лоренцо. Говорили о них в низком, холодном помещении, где мы, два десятка подростков, сидящих за сосновыми партами, все еще липких от краски, принимали обряд литературной инициации. Взгромоздившийся на трибуну молодой монах, с бледным лицом, большим ртом и неровными зубами, орлиным носом и глазами навыкат в красных прожилках, давал выход своему богатому красноречию. Голос его был неуверенный, охрипший и осевший, но вскоре зазвучал пронзительно и резко, как у петухов, он брызгал слюной, и давился словами, которые, запинаясь, вылетали из его рта. Это был отец Бланко, один из наиболее крепких побегов, которые дало в наше время престарелое древо августинцев.
В темной классной комнате пепельный ноябрьский свет наводил сонливость. В это время повседневная усталость уже давала себя знать. Мы прилагали усилие, чтобы наше внимание не поддавалось скуке или сну. Урок отца Бланко был, тем не менее, терпимым, как никакой другой, так как он говорил о вещах понятных и занимательных, совместимость которых с нашей личной чувственностью, на наш взгляд, была очевидной. Для своих он был литературным критиком первого порядка, и они использовали его вес в атаках на газету «Кларин», которую монахи считали оплотом нечестивости. В школе отец Бланко был балагур и шутник. Мы, студенты, называли его брат Сатир. У него начался кашель, в его зрачках горела лихорадка. Он умер несколько лет спустя, кажется в Хауха. Его «История», которую нам никогда не давали читать, на самом деле не стоила того, что о ней думали.
Наш уровень подготовки, как бакалавров, если судить по мне, был скромный. Больше всего, мы хором читали страницы из книжки Кампильо, которую я изучил еще в своей школе, в Алкалá и некоторые понятия прочно сохранились в моей памяти: «Что такое риторическая фигура? Образная форма речи». Или: «Критиковать, значить применять суждения здравого смысла в литературных и художественных произведениях». Кампильо, был один из тех профессоров-балагуров любителей подвергать учеников остротам за их счет. Он был требователен и, как поговаривали, был антиклерикалом. Когда ученики второго года обучения видели его в экзаменационной комиссии, то застывали от страха. Однако братья умиротворяли его силой пантагрюэлевского количества еды и безмерного пития. Иногда, дон Нарциссо совершал невероятные вещи. Однажды, сидя в экзаменационной комиссии, у него разболелась мозоль, он снял ботинок, возложил его на стол, достал из кармана складной нож, вырезал кусок беспокоившей его кожи и обулся удовлетворенный.
Спустя время, я встретил Кампильо в Ассоциации науки и литературы Мадрида, где он имел дурную славу. Это был дерзкий андалузец, сообразительный, изобретательный на шутки. В библиотеке была книга «Регентша»[«Регентша» - роман известного испанского писателя и литературного критика конца 19 века Леопольдо Аласа, псевдоним Кларин (Горнист).], известная заметками дона Нарциссо на ее полях. Экземпляр книги исчез, не знаю, может по распоряжению чересчур стыдливого библиотекаря или какой-нибудь любознательный библиоман сохранил ее для себя. Двое сыновей, которых имел дон Нарциссо, не унаследовали литературные способности своего отца; возможно преподобные учителя Благочестивой школы Алкалá в стенах которой они получили среднее образование, пробудили в них другие способности и они поддались в цирковые артисты.
Мои одноклассники, не имеющие прилежания больше моего, были подготовлены не лучше. Не знаю, есть ли еще у кого-нибудь такая путаница от беспорядочного чтения, какая была намешана в моей голове, в ранней юности. Мне казалось, что изучение законов, убивало мое призвание. Лишь со временем все стало на свои места. Романы Верна, Рида, Купера, пожираемые в печальном одиночестве деревенского домика омраченного столькими смертями, будили во мне бешеную жажду приключений. Я страстно любил море. Мечтал о бродячей жизни. Когда я впервые попал на Бискайский залив и увидел настоящий корабль, то чуть не умер от восторга. Со мной происходило тоже, что с сегодняшними детьми и кино; они хотят стать Фантомасом[Вымышленный персонаж, гениальный преступник, скрывающий своё лицо, один из наиболее известных антигероев французской литературы и кино. Как персонаж Фантомас создан французскими писателями Марселем Алленом и Пьером Сувестром в 1911 году.], как я хотел стать капитаном Немо.
Эта болезнь скоро прошла, мне расхотелось быть пиратом. И теперь не было уже другой отрасли знания или целесообразности способные сломить мое желание стать адвокатом. Впрочем, я по-прежнему читал, но уже без прежней цензуры. Жадно поглотил, разрушая свой внутренний покой, несколько потрясающих книг, хранящихся в библиотеке моего дедушки: Скотт, Дюма, Сью, Шатобриан, кое-что из Гюго, в переводе, и книги их испанских сподвижников. Помню, что я жил тогда в умопомрачительном мире. Этот опыт, который помог мне понять безумие Дон Кихота, пробудил мое раннее увлечение читать обо всем. Отец Бланко знал об этом. Желая выправить мой вкус, он дал мне почитать Хосе де Переда. Это было разрешенное чтение, и мы чередовали его книжками о Рокамболе, которые доставали тайком. Позже дал мне «Пепита Хименес» Хуана Валеры, но книга мне не понравилась.
— Это естественно — сказал падре. — Надо очень хорошо разбираться в испанских мистиках.
Не считая этих даров, в остальном, что касаемо чтения, нас держали на скудном пайке. История литературы сводилась к страницам книги текстов, толстого тома с основами введения в эстетику переведенных и адаптированных Левеком. «Капля росы, висящая на лепестках лилии; чистая и целомудренная поступь девушки; огромная масса океана возмущенная бурей…» и другими перлами была наполнена книга, должная нам прививать понятие о прекрасном. Падре Бланко, слыша, как мы смеемся над подобными глупостями, выходил из себя. Этот же падре, в том же году возглавил кафедру Истории Испании. Мы читали произведение Ортего и Руби, добродушного господина, непримиримого врага Филиппа II. Мне не забыть отдельные особенности его стиля: «Филипп II высадился в Англии, пил пиво, был галантен с дамами и завоевал симпатии англичан». Говорил он также о его «железной руке». Книга была в то время в двух томах: сегодня их намного больше. Или материала стало больше, или знания автора расширились с годами.
Для завершения формирования нашего духа мы изучали книгу по философии, рожденной неким профессором из Барселоны, владельца бакалейной лавки, который в свободное время варганил метафизику. Чистую ортодоксальность.
— Давайте посмотрим, юноши — вопрошал монах ― Что такое истина познания?
― «Соответствие между интеллектом и вещью» ― отвечали мы с апломбом.
Никогда больше не ступал я по земле так уверенно.
Завершил наше знакомство с азами философии томизма, монах-горец, небольшого роста, очень говорливый, слегка недоверчивый и хитроватый. Голос высокий, глаза ясные, тонкие губы, поддернутые мимолетным презрением или гневом. Очень умный, единственный монах из барчуков и, как я думаю, безусловно, самый общительный. У него был дар разговаривать с женщинами. Как наездник он был лучше, чем метафизик. Школа имела конюшню на пять или восемь лошадей, манеж и кладовку для упряжи, неплохо оборудованных. Некоторые из учащихся имели собственные седла. Конюшня, манеж и кладовка для упряжи находились в исключительном ведении падре. Там он проводил большую часть времени, выезжая верхом на Юле, гнедой кобыле чистых кровей, нервной и тонкой, которую он мало кому мог доверить.
В дни верховых прогулок, он садился на кобылу, в шляпе с загнутыми полями, полы сутаны подоткнуты под седло, накидка и капюшон развеваются по ветру, он выезжал через задние ворота в сопровождении учеников по верховой езде. Великолепное животное поднимается на дыбы, пятясь назад, и, вот, они мчатся галопом по дорогам Гвадаррамы и Вальдеморильи[Гвадаррама и Вальдеморилья города и муниципалитеты в Испании, входят в провинцию Мадрид.].
Комментарии о заслугах и достоинствах кобылы совмещались (не всегда лук должен быть натянут, советует Эзоп), с уроком метафизики. Она служила универсальным примером при толковании текстов.
— Это — объяснял падре, есть то, как если бы мы представили Юлу с восемью копытами,… поняли? Это так, как если бы я вам сказал: Юла зеленая и желтая…
Падре сидел поглощенный мыслями, положив локти на стол и обхватив лицо руками. Гам, который мы производили, не мог заставить его очнутся. Мы швырялись книгами и беретами. Некоторые, сидя на корточках, курили сигареты, неистово маша руками, чтобы разогнать дым. В очень холодные дни, один рыжий чертяка, имел обыкновение приносить пузырек со спиртом, разливал его по дощатому настилу между двумя рядами скамеек и зажигал огонь. Его соседи, споря, спешили занять место, чтобы протянуть к огню свои окоченевшие пальцы.
II
Школа, из которой я пришел, была на хорошем счету. Величественная постройка, стены осыпаются, у притолоки гранитный герб, земля у крыльца посыпана гравием, темные и сырые прямоугольные помещения. Весь двор в тени пышных и шумящих кустов лавра и дикой маслины. На возвышении, справа от директора, в шкафу, выстроилась небольшая депутация представителей царства минералов. А по левую руку, в нескольких шкафах, реторты в паутине, пробирки и трубки для опытов в штативах, все в щербинах, и множество баночек с веществами необычными и страшными, с первого взгляда казалось, что ты находишься в аптеке. Преподаватель физики – врач, ведь пришел с факультета смежного с экспериментальными науками; преподаватель арифметики и геометрии – капитан в отставке, сведущий, как военный в точных науках. Это были случайные люди, глумящиеся над неподатливой детворой, или подвергающие их наказанию, если злость за неудавшуюся жизнь внезапно ударяла в голову. Уроки идут один за другим; занятия совместные и в полный голос, чтобы через слух, материал трудный для запоминания, с помощью потока равномерно повторяющихся звуков, отложился в памяти. Под шквалом ударов палки и тумаков бестолковым внушали латинский синтаксис. Я больше видел слез льющихся над текстом Комментарий[«Комментарии о галльской войне» Гай Юлий Цезарь — В своих записках Цезарь описывает основные события Галльской войны — протекавший в несколько этапов конфликт Римской республики с галльскими племенами (58—50 до н. э.), закончившийся покорением последних.], чем сам Цезарь пролил крови на земле Галлии. Хороша же была школа: смешение голосов, тупости, дурных привычек. В школах Ордена Богородицы били розгами, а в нашей, самое большее, что получали ученики – полдюжины ударов ремнем. «Бог наказывает, но без палки», - такова была преамбула детской мудрости. Было очевидно, что учителя-миряне ближе к Богу, чем духовные лица.
Бездушие, нескончаемая брань, в доме царит мрачное сиротство. Нежная душа ребенка, жаждущая любви, начинает в этом случае, создавать кокон, куда прячет все лучшее, что у него есть в жизни, все свои устремления, благородные или нет, но пылкие, которые мир не хочет знать или унижает. В этом возрасте в сердце такое одиночество. Какое мне дело до римлян, понятию о прекрасном, или борьбе Папства с Империей? Мой героизм, это переживания связанные не с внешней сущностью и не с изучением образцов, а хождением в чащах своей души, когда это возможно; и всегда в тайне. Учителя спрашивают об истории, физике, агрономии…, но об этом лабиринте, в котором юноша блуждает на ощупь, с ужасом и тайным влечением, никогда не спросят. Кое-кому из них не мешает повесить на шею плакат с надписью: «Маска должностного лица, призванного быть отцом семейства, когда освобож-дается от службы».
И тогда юноша начинает любить себя чудовищной любовью, выдержанный в одиночестве, и погруженный в него, с чувством вины за содеянное в своих грезах. Потому что весь сорняк, который на такой почве мы увидим растущим и вызревающим, есть беспорядок, вред, недозволенное, постыдное и скрытое, о котором не следует говорить. Возможно, в основной массе они не испорчены и лишь один из них, как исключение стал чудовищем. Как это тяжело, думает человек, реально ощутивший на себе все прелести, так называемого, счастливого возраста! Выход лишь один – принять это, как есть, другого выбора нет. Но принять скрытно, полагая, что совершаешь преступление, и с угрызением совести и страхом предстать пред истоками, которые в глубине нашей человечности бурлят и очаровывают нас…!
Сколько мне приходилось примиряться в жизни, делая выбор между: любовью или искусством, жаждой знаний или дружбой, преданностью делу и самим делом, и побуждением добавить в нравственный мир творение собственных рук. Однако это было лишь способом поиска дела, но с таким юношеским напором, который тогда пугал меня, принимаемый за отраву, и который, казалось, все игнорировали не только во мне, но и во всем человечестве.
Со здравомыслием, покорностью ордену, я покончил. Я оборонялся; я был маленьким бунтарем, врагом, оказывая ордену минимальное молчаливое согласие. Я жил только для себя. Я любил много всего, но почти ничего у других людей. Любил окружающие меня вещи; любил незначительные предметы, принадлежащие мне, потому что они были бессловесные и привлекательные, и в них присутствовало нечто от меня. Я любил свои книги и место, в котором читал, его освещение и запах. Любил дом, такой страшный в сумерках, с бродящими тенями умерших, и как мне казалось, наполненный отзвуком голосов ушедших навеки. И двор, и нечто похожее на сад, среди строительного мусора, где в жаркие дни, едва садилось солнце, я наблюдал за стремительными виражами стрижей вокруг шпиля соседнего монастыря, перезвоном колоколов на мессе, голосами женщин идущих за водой к источнику у больницы, и другими отзвуками городка терзаемого тоскливым вечером.
Я мало любил людей. Мне казалось враждебным их поведение. То, что было мне более близким, было удалено от меня почти на три четверти века. Но появлялись другие герои и героини под стать мне на маленьком кладбище, прилепленному к ограде Сан Бернардо, где кедры и липы между акациями и пруд, обрамленный олеандрами, слушали летними ночами излияния нашего бреда.
В такие ночи, я ложился счастливый. Но вскоре, из алькова расположенного рядом мне уже кричали:
- Ты уже спишь?
- Еще нет!
- Что ты делаешь? Молись, Господу нашему Иисусу Христу. Если ты умрешь сейчас, то попадешь в ад! Гореть, гореть тебе вечно! На веки веков!
Было горько и так несправедливо! Я проглатывал несправедливость, она была такого же вкуса, как мои слезы. Говорю так, потому что испробовал ее горечь. Сердце мое было переполнено гордостью, ведь я был правым по отношению ко всем, я был их жертвой.
— Ты пойдешь к монахам — сказали мне, как только закончилось лето.
Я был больше удивлен, чем огорчен. Монахов я никогда не видел. Алкалá[Алкала или Алькала-де-Энарес — город в Испании, в автономном сообществе Мадрид, на реке Энарес, родина Мануэлья Асаньи.], в прошлом, был обильным рассадником известных религий. В мое время это уже был светский город, заполненный бедными канониками, которые не слишком рьяно вербовали новых сторонников, состояли в штате, но деньги зарабатывали пением в хоре магистров: «Боже, приди ко мне на помощь»… И, как другие служащие ходили на работу во второстепенные учреждения или в архив. Одни священнослужители верны своему делу, другие лишь делают вид, что следуют призыву апостолов, ловя усачей в Энаресе[Энарес (Henares) – река на которой стоит город Алкала.]. Есть среди них пьяницы и распутники. От монахов осталось небольшое количество монастырей, слава о наиболее щедрых взносах, которые им давали, и все еще свежие воспоминания об их борьбе за «чистого» короля в эпоху Фернандо VII. Для женского пола, монах был молодцом, крупного телосложения, с бородой и в сермяге, бритым черепом, нацеливающий мушкетон против французов, которые натравливали добровольцев-роялистов на «черных». И, вот это сборище, таких молодцов, основывала школы? Суровую же тюрьму мне обещают!
Со слезами расставался я с узким мирком, которым привык править; меньше всего меня беспокоило, где я буду пребывать. Родня прощалась со мной так, как будто бы я отправлялся на исследование Амазонки. Или начинали утешать меня, от этого, по их мнению, большого несчастья: «Это для твоего же блага. Когда вырастешь, будешь благодарить нас!»
—Эх, если бы твой дед видел это…! – прошептал один, вспоминая о заслугах моих предков, в борьбе за принятия конституции 1812 года.
В качестве компенсации мне достались лобзания монахини. Немолодая настоятельница, тщательно закрыла и укутала себя, лишь ее перезрелое лицо, выглядывало из круглой рамки, предписанной ей канонами, накрахмаленного монашеского чепца, наверное, чтобы не узрели какого качества ее недостойная плоть или наготу. Добрые монашки улыбались мне нежно. Показывая, что в груди у них не тряпичное сердце они изрыгали рыдания. Не от их страсти, а через сетку алых штор, в приемную проникали пурпурные отблески. Простившись со своими вещами, как мне казалось на пару месяцев, но, увы, никогда не увижу их больше (хотя, я так и не понял, как нас побеждает необходимость в них).
Утро я уже встретил в Эскориале, и моим первым впечатлением было, что я вступил в страну, где все необычных размеров. Меня встретил падре Вальдес, подняв очки почти на лоб, посмотрел на меня живыми прищуренными глазками и спросил:
- Почему ты учишься? По убеждению?
Я ответил со смехом, пожимая плечами. Он отвел меня в мою комнату, а затем я присоединился к четырем бездельникам, которые слушали истории о женщинах. Рассказчиком был прыщавый андалузец, он сплевывал сквозь зубы, и от него разило йодоформом.
III
Нужно быть дикарем, чтобы найти удовлетворение в студенческом товариществе. Как правило, между школярами звериные инстинкты выходят наружу и под предлогом товарищества сносятся барьеры, которые возводит воспитание, для того, чтобы жизнь в обществе была возможной. Масса учащихся очень скоро вырождается в шайку людей связанных общей подлостью. И, каждый человек, который не подвержен неизлечимой пустоте, и стремится сформировать в течение своей жизни благородное сознание, обязан, избавится от этой примитивной глупости, которая чем больше, тем менее превышает уровень бульварщины и не имеет смысла. Многие люди лелеют память о своих студенческих годах, восхваляют их сладость и возвращаются к ним с любовью в глазах, полагая, что это был золотой век их жизни. Это искажение понимания, тех, кто не находился до этого в ситуации более тяжелой, например: заключенные, они предаются воспоминаниями о юности, которую на самом деле уже потеряли, не делая различия между ее сущностью и яркими происшествиями.
Мне лично незачем хвалить школьное сообщество. Досада за попусту потраченное совместно время, горечь от заточения, отсутствие любви и вид подавленных личных чувств, выровненных под одну гребенку неизменной дисциплиной, добавляли, не знаю, сколько кислоты в мешанину различных манер и наклонностей. В миниатюрном мире размером, как капля воды насытится не труднее, чем в болоте, в котором мне пришлось жить и использовать такие смягчающие средства против жестокого обращения с человеком, как выбор и уединение.
Уединение, для окружающих, казалось подозрительным или, если хотите, странным. Более всего это касалось странной любви[Странная любовь – так в католических школах называют однополую любовь.], за что некоторые были сурово наказаны. И все же складывались маленькие сообщества, в которых их самое сладкое и сердечное держалось в тайне. Какими мотивами они руководствовались, объединяясь, я не знаю. Это не была глубокая и прочная общность, потому что я не видел, чтобы она продолжалась за стенами школы. Дружеские связи, которые я сохраняю с того времени, это уже другая дружба, измененная и привитая на старый ствол, которая вызрела в других условиях и имеет другу пробу. Мотивы, тех страстных предпочтений, были, можно сказать, случайными, так как не определялись реальным выбором. Объединение происходило на почве излишней чувствительности, было неустойчивым и несерьезным. Раздражало отсутствие возможности для встреч.
Объединялись в тесный закрытый кружок, вожак и два или три его товарища. Они появлялись вместе в бильярдной, в гимнастическом зале и в других местах отдыха. Во время загородных прогулок в Батáн или Фуэнте де лас Аренитас, когда мы садились, чтобы поесть положенную паэлью[Паэ́лья — национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.], они располагались отдельно от общего застолья. По вечерам они устраивали тайные встречи в какой-нибудь коморке, чтобы играть в банк или ломбер, или читать романы. Иногда, ночью, вплоть до позднего часа, особенно в хорошую погоду, опершись локтями, стояли у окна в невинном созерцании, молча, чтобы слушать концерт шумящего тополя, и флейтирующей жабы, и хмелеть от пьянящего ветерка, дующего из леса Ла Эреррия[Эррерия (La Herrería) – натуральный лес, протянувшийся по окрестностям Мадрида, в том числе рядом с Эскориалом.]. Школа, для которой эти близкие отношения являлись нарушением устоев, закрывала на них глаза, потому что на эти союзы возлагалась задача чисто оборонительная, направленная против чужеродных нравов.
Школьное сообщество учило быть осмотрительным. Нельзя было доверять сочувствен-ным порывам юнцов; вдобавок, здесь откармливался рой трутней, бездельников (сосланных в Эскориал попытать удачу на экзаменах под прикрытием призрачного воздействия монахов), людей подверженных пороку и нечистых на руку, которые пользовались единственной привилегией – быть посмешищем школы. Они брали под свою опеку бездарей, робких, женоподобных или жалких мальчиков, которые неприкаянно бродили между нами не находя дружественной поддержки. Школа принимала их за жертву; более того, над ними ежечасно смеялись, обзывали с презрением, постоянно следили за тем, чтобы никто не оказывал им помощь, которая хотя бы немного укрывала их от агрессии школяров. Было и так, что какой-нибудь живоглот или банда того же пошиба извлекали выгоду из несчастных, получая с них мзду в обмен на кажущуюся защиту от насмешек, оскорблений, каких-либо упущений или битья. Большинство попадали в такую кабалу против своей воли, из-за нехватки решимости, чтобы договориться между собой и организовать общество защиты. А другие, придурки, которых бы лечить врачам, добровольно смирялись с той жизнью, наиболее мучительной в их возрасте, из-за анормального желания казаться своим мучителям взрослым, и походить на них.
Стимулы подобного рода преобладали в школьном сообществе. Мы были предрасположены казаться бывалыми мужчинами, и не было более достойного признака мужественности, чем превосходство в сексуальном опыте. Эротизм, обостренный изоляцией, терзал воображение, выделяя его от всех других соблазнов, и школа скакала, как животное воспаленное течкой. Волнение плоти, было характерной чертой той жизни, даже тогда, когда ее удавалось победить и в этой борьбе религиозное сознание продолжало формироваться. Но то, что нас терзало, не относилось к богословию, а некоторые формы религиозной экзальтации, суровых покаяний и умерщвление плоти, о которых мы узнавали, в основании своем не были лишены ферментов похоти.
Случаев молниеносного заражения школьной безнравственностью было много, самый примечательный произошел с одним юным мадридцем голубых кровей, который приехал из Англии, где воспитывался. Он не мог произнести и двух слов на испанском языке и был наивным, как голубь. Ему было восемнадцать лет. За несколько дней он научился напиваться и браниться, как самый сильный забияка и бахвалится мерзостью своих новых привычек. Было забавно слушать, как он старается заучить на непонятном языке вновь приобретенные слова.
Уединение в келье было самым приятным средством против беспокоящих чувств, которые постоянное совместное проживание стольких молодых людей не могло не побуждать. Запереться в четырех стенах, это как выйти в другой мир, и восстановив обладание собствен-ным спокойствием, тот, кем ты был, бесконечно удалялся, душа внезапно разрасталась, и ты терял его из виду. Однако не каждому по силе вынести одиночество. Некоторые с ужасом говорили о часах, которые обязаны были провести в келье: изоляция во время учебы, а также ночью, была для них мучением. Они ходили туда-сюда по комнате, как звери в клетке, читали вслух или напевали, потому что, слыша свой голос, им казалось, что они уже не одни. Нам было знакомо также настроение, которое в изоляции способствовало появлению скуки, обостряв-шейся в этих условиях и неизлечимой. Здесь, без видимой причины появлялось недовольство, отвращение к самому себе, накапливалось день ото дня разочарование формирующейся личностью и неудачами, потому что уже заранее был осужден жизнью. Нас, не так угнетала тоска, как ярость, в которую мы впадали или, по крайней мере, были предрасположены к очень опасному раздражению и переходили от уныния к гневу по незначительному поводу. В такие дни, школа выглядела пустынной, холодной и мрачной, как никогда, а люди казались еще более высокомерными и необщительными.
Это был жестокий приступ зла, которому в той или иной степени, были подвержены все, таковы негативные последствия времени. Большое количество времени нас подавляло. Вместо того, чтобы согнуться от усталости, поднимаясь на вершину гор времени — неисчислимой массы времени, мы растрачивали его попусту. Нам надо захотеть вознестись над ним, разрушать его. Мы должны желать уничтожить время, как врага, вставшего между настоящим и неопределенным будущим, чтобы жизнь начала приобретать ценность.
Душа приобретает привычку, не считаясь с прожитым мгновением, стремительно проецироваться на будущее, не имеющего ни даты, ни названия, ни какого-либо другого значения, но являющегося открытой отдушиной от сегодняшнего дня. Вся наша система побуждала нас верить во что-либо незначительное: например, официальный механизм и смысл школьного образа жизни были направлены на то, чтобы сделать нас мужчинами, и это при абсолютной праздности нашего духа. Сомнительны намерения того, кто хочет утвердить в юноше школьную дисциплину, опираясь лишь на мягкие увещевания. Я всегда руководствовался своими внутренними убеждениями. И, как Дон Кихот, переправлялся через Эбро на лодке без руля и ветрил, много ли надо, в этом случае, чтобы разбиться. Каждую ночь перед сном мы шли в часовню, где монах нас призывал: «Положимся на Бога и возблагодарим его за полученные благодеяния!». Имей я тогда более четкое мнение, и главное, был бы более внимательным, то в эти минуты размышления привел бы неутешительные доказательства этому.
IV
В зимнюю ночь один школяр услышал слабый стук в перегородку своей комнаты. Он вылез из постели, и полуодетый прошел в соседнюю келью, в которой жил монах. Обнаружил падре, лежащим в кровати, с согнутым туловищем на пледе. На одеяле лежала открытая книга. Увядшим голосом падре сказал:
—Помоги мне, Бога ради. Я замерз, читая, и не могу разогнуться.
Школяр помог ему выпрямиться. Позвали медбрата. Брат Марселино, сияющий и улыбающийся, сделал ему растирание и падре обрел немного тепла, в котором ему отказывала его кровь. Не сразу унялся наш веселый гомон, когда на следующий день, с кафедры, тот же самый монах рассказал нам о своей неприятности. Он действительно был невероятно худым, бледным и изможденным, мы не раз думали, что он умрет, заморенный таким суровым климатом. Горькая улыбка, которая время от времени растягивалась среди его густой четырехдневной щетины, и тот взгляд унылой овцы, с которым он сопровождал рассказ о своей беде, делали его жалким и отталкивающим. Монах был сварливым, можно сказать язвительным; походил на человека сурового и угрюмого, и в общем, имел изнуренный вид. В школе его называли Хек. Не знаю, жив ли он или уже умер. Вполне вероятно, что штормовой ветер Эль Эскориала унес его и теперь он стал новым Илией, живущим в другой сфере.
Два года этот монах держал меня под хомутом своей слабо натянутой упряжи. Недомогание от болезней позволяли ему увиливать от занятий, как нерадивому школяру. Однако его личная репутация, как преподавателя канонического права, обязывала его держать себя в форме. Единоверцы считали его неоценимым специалистом по каноническому праву: но я никогда не слышал от него ничего толкового, кроме массы комментарий к небольшому тексту; тем не менее, он был усидчивым и строгим, и было видно, что читал книги намного толще, чем наши жалкие книжонки. Говорил он плохо. Речью владел не очень хорошо. Сложные предложения выходили из его рта медленно, ползуче, перемежались со словами паразитами и форшлагами, казалось, что они возвращаются опять внутрь, и он их мямлил, как бы выговаривая между позывами тошноты, это сопровождалось движением тощей руки, которая слабо болталась, как на кукле, как тряпка, свисающая с шеста. Он использовал наречие без чувства меры, например, мог сказать: «Никейский Собор, который в основном проходил в таком то году…». Между его невысказанным знанием и нашим отсутствием прилежания находилась мертвая зона, которую никто не пытался преодолеть. Падре ходил по ней, бормоча с уважением и благоговением каноны, охваченный религиозным трепетом по поводу такого великого сосуществования.
На следующий учебный год, мы заключили с монахом договор о союзе, когда он не обдуманно пришел преподавать другой предмет. Бедняга, вступив на новую стезю, не знал в какую сторону поддаться и примкнул к нашему лагерю. Симонисты, Присциллиан, Тренто, Латерно… это великие названия; а вот, Закон о Шахтах, Собрание представителей провинции, судебные тяжбы - здесь уже речь идет о государственных учреждениях. Одно и то же непреодолимое отвращение объединило нас, и поскольку мы вместе должны были пройти ту полосу невезения, то решили занять более удобную позицию: по молчаливому соглашению мы должны были заниматься административным правом столько, сколько дождя было в засушливый год. Мы отказались спускаться в классы, так как там было очень холодно: падре собирал нас в своей келье, усадив вокруг стола, он открывал очередную главу учебника. Мы, возобновляли в полголоса разговор, начатый еще в коридоре, или он начинался, какими-нибудь словами, сказанными специально монахом, которые гулко падали в полной тишине, при этом он не переставал играть роль подсадной утки, что оживляло беседу, и она продолжалась более чем один час. Темы наших разговоров согласно их значимости располагались в таком порядке: текущие события, политика, восстание на Филиппинах. Анекдотичные истории об Эскориале, слухи об августинцах, какие-нибудь байки или шутки принесенные школярами из Мадрида были пикантной частью наших рекреаций. Когда в редких случаях, ни дождь, ни ветер, ни снег, ни жара или холод, ни Сагаста, ни Дон Карлос, ни республиканцы, ни «товарищ Иглесиас», ни другие аппетитные наживки не были способны поднять разговор, то достаточно было заговорщицки произнести одно из этих слов: Рисаль, Полавиеха, Имус, а еще лучше, масоны, заключенные, автономия, чтобы падре оживлялся и, вперив в нас свой тусклый взгляд, спрашивал: «Что? Произошло, что-то новое? Что говорят?». Иногда только колокол, звавший нас на обед, прерывал коллоквиум.
—Есть, что-либо непонятного в сегодняшнем уроке? —спрашивал падре.
—Нет, сеньор, никаких.
—Тогда до завтра.
Этот преподаватель был мерзляк, поэтому ему нравилось выносить свою чахлость на солнце. В дни ранней весны, которые обычно приносит февраль, он водил нас гулять во время урока в сад монахов. Тайком, выходили за ним из школы, и по галереям, закрывавших площадь перед монастырем со стороны бульвара Тополей, добирались до сада Выздоравливающих, а затем в сад монахов. Мы уходили от холодной пустоты наших коридоров, от угрюмой обнаженности белых стен, от тоскливых звуков школы, чтобы устраивать сражения под синим небом, в местности, покрытой туманной дымкой, без всяких ограничений, под защитой тишины исходящей от одного из самых восхитительных мест в мире, где господствует испытанный временем эгоизм ящериц. Наши бесчинства с трудом могли застать врасплох этих малюсеньких животных. Раскоряченные на ограде, на сочном старом лишайнике, который произрастает на граните, они, едва почувствовав наше прибытие, стремительно бросаются в свои норки. Там будем искать их, ковыряясь в пустотах между тесаным камнем. Некоторые из них оставляли в наших пальцах часть своего хвоста; наше образование уже было достаточно широким, чтобы думать, что виляние и движения оторвавшегося хвоста — есть, как нас учили в детстве, проклятия.
Сад очаровывал в эти часы своей безмятежной радостью и покоем без намека на грусть. Покой на все это и последующее время, который внешне напоминал воскресный, когда кувыркаются непринужденно, а повседневные правила поведения отменяются. Солнце отражалось от грифельных досок, от оконных стекол, от зеркала пруда. Гранитный простенок между башнями горячий, невозмутимый и как обычно безмерный был окутан более плотным воздухом, в котором мягко дрожал свет. Воздух наполнен ароматом самшита. Вокруг было уже то великолепие, которое предвещает радость Пасхи.
Какое замечательное солнце, проникающее сквозь окна в кельи монахов, неся им столько радости и покой! Кто-то высунул свою темную фигуру, обозрел нас спокойно, и вскоре исчез. Еще один ожесточенно выдергивает из скрипки нестройные стенания. Они все в своих кельях, кто читает или медитирует, кто шагает вверх и вниз с молитвенником, закрепленным в руке, бормоча молитву. А падре Виктор в гостиной настоятеля показывает в подзорную трубу, установленную на треножник приезжим гостям окрестности Мадрида. Вскоре из монастыря доносится звон колокола. Монахи выходят из своих келий, проходят через темные крытые галереи, пересекают дворик с застекленной крышей, где установлен фонтан, откуда вода по четырем трубкам стекает в гранитную чашу, и входят в трапезную, холодную и с отвратительной едой.
У нас другой распорядок. Мы остаемся в саду. Мне нравиться растянутся на ограде, лицом к небу, руки под затылком, не двигаясь, чтобы не растрепать волосы. Садовник пропалывает землю, мягкую, парную. Слышится звон мотыги столкнувшейся с камешками. Галерея и дерево, башня и горы угрожающе наклонились. Вы, как бы парите в воздухе, а навстречу вам летит аист, который летит расширяющимися кругами, неся в клюве хворост, чтобы восстановить свое гнездо на печной трубе, а в когтях у него ветка.
V
Восторг души, возникающий от природной красоты, был способом достигнуть, вот так сразу, настоящего состояния блаженства, когда прекращается противоборство между склонностью и законом. На первый раз это противостояние закончилось в мою пользу. Преуспевая во всем, и научившись изворачиваться в той суровой жизни, я не переставал восхвалять упорство, с которым поддерживал свои надежды. Придут ли в мир люди способные в полной мере прочувствовать это, но не для того чтобы нетронутым хранить в каком-нибудь подземелье и в одиночестве наслаждаться им, как скупец пересчитывающий свое бесплодное богатство? Внешнее принуждение и людские отношения, дали мне возможность начать изучать, кто я есть, подрезать и очищать спонтанные вспышки моих побуждений. Это ограничение моей свободы было болезненным, но временным и я знал это. Сравнивая благородство своих чувств, так хорошо соизмеримых с великолепными предписаниями общества, с осторожностью и холодным равнодушием дикарей, я сделал вывод, который был результатом не моей беспомощности, а чуждой мне низости.
Других можно убедить избежать боли, оставаясь тихими, признавая принципы, основанные на подлости и разочаровании, но я не хотел даже предположить, что от моего имени будет говорить моя поруганная совесть. Подъем моей чувственной жизни, был для меня новым явлением. У меня не было никакого предыдущего опыта. И эту целомудренную силу, еще не сориентированную, я бы сумел использовать с великолепием и достоинством соответствующим ее величию и расходовать ее не более, как по своему усмотрению…. Но раньше необходимо будет подавить голос страха. Мне столько плохого говорили о демоне, сидящем внутри меня, что я был бы поражен тем, что разглядываю его в себе и восторгаюсь его посулами, настолько, что ужас сковал бы меня до корней волос, как если бы я был уже в плену неминуемого несчастья.
Причины, побуждающие меня, были жалкого свойства, но в конечном итоге, они, а не мое поведение, уменьшали страх. Более убедительной причиной того, что противнику удавалось влиять на мою совесть, была «горечь плодов страсти», кротко побуждающая меня остерегаться последующего разочарования, если я отойду от спокойной жизни, в которой состоит возможное счастье. Не так важно, что плоды невкусные, лишь бы они были спелыми. Мне отвратительно отдавать жизнь в жертву угрызению совести. И воздержание, так превозносимое, и небольшие отклонения от возбуждения, объявленные вне закона, также не приносили мне обещанного умиротворения и покоя.
Я не обладал ни духом жертвенности, ни смирением, ни чувством раскаяния. Не находил удовольствие в самоотречении, являющимся средством утешения, не обладал героизмом и не рассчитывал на награду; жесткость сердца заставляла меня быть искренним. Мне претит холодная надменность тех, кто не рискует подавить свое самолюбие. Ведя внутренний диалог, скрытый от посторонних глаз, я проложил, не заметно для себя, борозду, по которой до сегодняшнего дня я могу возноситься к истокам своей нравственности, обычно я оказывал своему внутреннему оппоненту согласие, что было достаточно для того, чтобы освободить себя от его преследования. Однако хотя вслух это не говорил, я носил, хорошо скрытую, уверенность, что все эти тюрьмы разрушатся; и если тот врожденный страх меня покидал, то тревога захватывала меня перед стремительным течением времени, которое с легкостью проходило через меня, не оставляя следа.
Какие чары вынесли меня на воздух и свет, чтобы я прервал свою рефлексию и поднял душу на такой уровень, когда стирается смысл хорошего и плохого, и уходят желания? Сила созерцания в том, что ведет к уничтожению колдовства от нежных чувств и пища для размышления тает и испаряется, оставляя нас в призрачном, бесформенном покое, в котором разрушен жизненный дуализм человека и мира. В таком растворении личности, по моему разумению, заключается не столько высшая точка жизни, сколько, напротив, способ потерять ее, уничтожить рефлексию, чтобы не останавливался взгляд на историю человека, которая с болью начинала запечатлеваться в сознании. Это был наркотик, источник непорочных наслаждений, без всяких примесей.
Чтобы наслаждаться им, я с каждым разом все больше искал возможности прикоснуться к природе и просил у нее чувственного восторга, который вызовет у меня оторопь уже не раз испытанную. Она не подчинялась покорно моим фантазиям и сдавалась тогда, когда я меньше всего ожидал этого. Иногда, более того, мои просьбы были бесполезны. Напрасно я давал волю потоку эмоций, чтобы принудить ее подчиниться мне: то таинственное единение все равно не происходило. Это было так же, как осыпать ласками статую. Тогда мой любовный потенциал обращался на что-то исключительно конкретное: оценивал формы, цвета, пропорции, ароматы, звуки, не переходя на большее.
Старательность и скрупулезность, с которой я изучал объекты, вытаскивая их из массы, куда они ранее были внедрены, помогла мне освободиться от чудовищного впечатления своей незначительности, с которой весь мир безраздельно подавлял меня. Я освободился от некоторых чувств, перенеся их на вещи. Начал населять внешний мир плодами своего воображения. Я властвовал над людьми и распоряжался ими, как материалом для своих игр, которые уже не были детскими.
Из окна своей кельи, выходившего на Бульвар Тополей, я устроил трон и оттуда изъявлял природным силам свои намерения, которых раньше им тупо не хватало. Если был грустным, то покрывал горы капюшоном из тумана или гасил шум на земном шаре одеялом из снега. Когда мое вдохновение бывало на пике, то расширял вогнутую линзу ночи. Плохое настроение вселяло в меня злой умысел, хотелось освободить неистовый ветер и позволить ему, целые дни и ночи бегать по кровлям и разрывать свою пасть воем. Мой худший творческий порыв доставлял радость дамам, а еще больше дочерям изящных дам, которые на закате солнца шли по Бульвару Тополей и возвращались по Аллее Пиний. Я набрасывал картину: лучи заходящего солнца в легком тумане, вдалеке, отблески пламени пастушьих костров, густые клубы дыма запутавшегося в деревьях, и несколько отбившихся от стада овец возвращающихся из Эрерии (лес рядом с Эскориалом) под навес в усадьбе, чтобы покормить молоком своих ягнят. Запах сгоревших дров, испарения преющих листьев, жалобное блеяние: все было готово.
— Вам нравится? — спрашивал я девушек.
— О, да! Очень! — и бросали томные взгляды на окна школы. Но меня раздражала их чрезмерное жеманство и едва мои подруги делали последний круг по саду, как картина внезапно таяла в сумерках.
По этим лазейкам моя сущность начала выходить наружу, и в этом мой большой долг перед Эскориалом, а лучше сказать, его окрестностями, где в возрасте становления прекрасных чувств, я впервые был поражен пейзажем. Творение человечества, монастырь, оставался в стороне, непостижимый, если не сказать враждебный. Мы вроде бы им восхищались, не зная хорошо почему (может за его величину), или же видели в нем причудливое творение, наполненное устаревшими замыслами, которое не оказывало на нас впечатление и мы не могли объяснить, каким образом, наш разум может извлечь из этого пользу. Назову причину, по которой был склонен смотреть на монастырь, как на огромную ошибку. Она не в том, что разум, подключаясь позже, не в состоянии вникнуть в секрет этого творения, высшего достижения человеческой изобретательности. Нам намного легче понять творения природы, и еще легче найти доступ к душе, чем понять патетическое очарование пейзажа. Но, кроме этого, мы еще обязаны рассматривать памятник с точки зрения его исторического значения, а также принимать во внимание его моральную ценность, значение которой превышает его художественную ценность. Думаю, что монастырь остался непостижимым, потому что мы подходили к его оценке с теми же критериями, что и к экспедиции Непобедимой армады.
Но, что мне делать с накопленным опытом и как использовать мои открытия, ведь, несмотря на их незначительность, они были плодом моих личных занятий? Я не знал, может они обогащали меня, или может, что еще лучше, я был, как богатый бездельник, проматывающий свои сокровища. На первое место в своей жизни, я ставил не прогулки, не полную праздность или распущенность, каким я виделся с поля, где обычно бродил, а круг своих обязанностей, от которых не мог увернуться ни под каким предлогом. Школа навязывала нам много всяких обязанностей, из которых наши души захватывали лишь те, что были связаны с религией, мы соблюдали их со священным трепетом, проникнутые христианским страхом, внушающему любому строптивому сердцу смертные страдания. Однако человек имеет душу не только для того, чтобы рисковать своей головой или крестом перед дьяволом. Это так очевидно, что наверно, поэтому мы тратили большую часть дня, чтобы всячески украсить ее, не обращая внимания на то, что этот труд не имел связи с высшей сущностью души. То же, я видел в тюрьме Алкалы, где заключенные вязали плетенки. Так, кто же я на самом деле? Ведь, машина – существо без мозга, выполнит наши работы намного точнее и с не меньшим блеском, чем мы. Но я точно не машина, ведь они облегчают нам труд и при этом не умеют обманывать.
VI
Заявляю, не без смущения, что в Эскориале я был блестящим учеником. Можно перечислить немало людей, которые из-за недостатка титулов или неправильного понимания ободряющего сочувствия, пытаются возвыситься в чужих глазах, превознося болезни, которыми они страдают. Мой недуг, которым я мог похвалиться был более серьезный, это прилежание — отравление типичное для одаренного ученика. Однако моя воспитанность и желание не брать на себя грех, испортив ложью свое прилежание, заставили меня воздержаться от подобной уловки.
Должно быть, как студент, я выглядел необычно: непринужденный, бойкий, искрящийся весельем. В бойне, которую устраивали в виде экзаменов заключающих очередной курс (целые классы приносились в жертву преподавательской клерофобии[Ненависть к духовенству] или для поддержания репутации строгих мудрецов, слишком уверенных в значимости своего предмета), я был один из двух или трех, которые спасались, и спасался со славой. Моя естественная стезя уже была заметна из тех отличных отметок и отзывов, которые я получал на наших экзаменах.
Успешный юноша побеждает в жизни, если едва выйдя из Университета, публикует огромные брошюры «О социальном положении женщины» или «Необходимость улучшать тяжелое положение трудящихся классов». Или если явно помогает в адвокатской конторе и располагает всех к себе, вытаскивая от наказания дочь, какого-нибудь болвана. И это не считая того, что по-настоящему вступит в окружение Венеры, и приобретет еще активы, среди которых обычно учитывают многочисленную толпу избирателей, связь с которой менее эфемерна, чем холодное наслаждение от брачного союза.
По какой бы стезе я не пошел шаг за шагом, не вижу связи между нашими задачами, как учащихся и теми головокружительными высотами, ожидающими нас в будущем, так как, находясь еще в начале пути, не могу видеть, что будет впереди. Но тот, кто стремился все просчитать и принимался комбинировать цели и средства, оценивал тотчас наш труд в его положительном значении. Разве это не гимнастика для ума, впитывая законы Двенадцати таблиц, Декрет Грациано и различные опровержения пантеизма, получать возможность подняться на трон деревенского касика, устроить выгодный брак, получить мандат депутата Кортесов, министерский пост. Это все ступени, следующие за высшим образованием и докторантурой на факультете, на котором начинают с разбора трудов Ирнерио[Ирнерио или Ирнериус (Irnerio o Irnerius) (1050-1130) – итальянский юрист, представитель Болонской школы права.], а заканчивают,
естественно, службой у Сагаста[Сагаста Пракседес Матео (Sagasta, Práxedes Mateo) (1827-1903) – испанский политик 19 века.] (в то время премьером был Сагаста). Вот так, всего лишь заменяем равнозначные величины, и наш дух попадает в ритм поступательного движения. Мы можем сделать и другой вывод — вне этого пути, продвижение вперед, при всех ваших стараниях, не получится, как если бы вы были прокляты Богом. Такой будет и моя судьба, таким будет вероятно и мое предназначение.
Если кто-либо из моих добрых учителей, в своей области, сравнит те обещания и эти результаты, то сможет сказать, что я свел на нет все его усилия, ведь разум служит не для поиска истины, а для того, чтобы прокладывать путь по жизни, а меня с детства поставили на колею победы. Несомненно, я предал их, опроверг самые ясные предсказания. Те годы были прожженны почем зря, и пепел их развеян. Говорю это без горечи, без исступления, невзирая на опасность, в которой находился, ведь сейчас мне только и остается, что с удовольствием вспоминать, как я спасся. Спасение мое, вопреки здравому смыслу, было осуществлено благодаря моей лени, потому что мне жаль было усилий, тем не менее, серьезного заражения, не смотря на симптомы, не было. Не могу даже похвастаться тем, что прошел через умственные трудности.
Я вышел из школы без какого-либо багажа, не от чего было мне отказываться, нечего было терять. Мне дали картонное оружие для битвы, в которую, по счастью, я и не думал вступать. Зато чувствовал себя, как рыба в воде и ничего лучшего не искал. Поговаривали, что я сошел с рельсов и, что потерялся. Пусть так и будет. Не стал я ни олигархом, ни, тем более, выдающимся человеком. Утешает то, что моя исключительная наивность скрыла от меня спектакль моего возвеличивания. Наверное, поэтому я не научился ни самокритике, ни жить изолировано от действительности. Я не святой и не юморист, и думаю, что не такой уж и глупый, чтобы не восхищаться собственным трудом. На меня большее впечатление произвел находящийся на вершине могущества Робеспьер, чем Марк Аврелий, так как я тоже серьезно относился к своим деяниям, но заранее не обеспечивал защиту, на случай взгляда на них с другой стороны. Возвышенный до ранга рупора общих глупостей, поскольку мне не хватало взлета цинизма подлецов (не умею торговаться в нужный момент), я бы произвел на свет мальчика облаченного в тогу, с апостольской гордостью, этим я бы обманывал себя, чтобы умышленно не обмануть ближнего. Это, как раз тот герой, которого я ненавижу.
Одерживая легкие победы, не могу уверенно сказать, кто кого вводил в заблуждение: я школу, идя кратчайшим путем и опираясь на память, что требовало меньше усилий, или школа меня, прощая мои низкие качества. Мне казалось тогда, что я контрабандист, который богато живет благодаря мошенничеству и производит на окружающих, не знающих истинного положения дел, хорошее впечатление. Я чувствовал дискомфорт, испытываемый тем, кто живет обремененный неприятным делом. Его лишь можно немного смягчить, отвлекая свое внимание на другие вещи и только. Для меня было пыткой, разрываться между работой и осторожностью, мало что найдется более мучительного.
Настроить душу на умственную работу, и достигнуть соизмеримого длительным усилиям вознаграждения, мне никогда не удавалось. В наших душах был опасный дисбаланс между вниманием с одной стороны, которое блуждало по воображаемым мирам, что было скучно, безрезультативно и вело к тревожным ожиданиям, и с другой – неясное желание стать на ноги и взять быка за рога. Если школа нам представляется временной приостановкой собственной жизни, то из этого следует, что необходимо приостановить и развитие культуры интеллекта. Поэтому там мы жили по принципу то, что можно сделать завтра не делай сегодня. И естественно, мы не ходили озабоченные, выпрашивая у монахов знания, и не проявляли недовольство не получая их.
Убежден, что разум действенный, нестандартный, развивающийся, страдал от такой системы лишений, аналогичной вынужденному похотливому воздержанию. Но мы были излишне ленивыми и соглашались с подобной умственной диетой. Это согласие очень хорошо сочетается с тревогой, которая возрастала в пустующем уме, но не разрушала его, а подкрепляла. Нам попросту не хватало серьезных стимулов. Немногие из нас могли обратить внимание на отсутствие знаний в наших головах. Здоровая интеллектуальная жизнь у нас не могла начаться пока мы не выйдем из школы. Все, что мы приобретали, было лишь для того, чтобы забыть это, когда станем взрослыми. Многие программы и книги, многие уроки, многие экзамены были всего лишь для того, чтобы приобрести некоторые навыки одомашненных орангутангов, навыки подобные опавшим листьям, к которым никто из нас не обратится ни разу в жизни. Те усилия, которые мы употребили, чтобы овладеть ими, были потрачены напрасно.
Наш разум был не такой уж детский, как думали монахи, на которых мы производили впечатление наивности, кротости ума, которыми на самом деле не обладали. Монахи открыто сужали поле нашей любознательности, для которой лучшим стимулом было бы поощрение исследовательской работы. Были вещи дурные, небезопасные и бесполезные, которые лучше бы нам не знать преждевременно. Суть в том, что надо было отличать науку ложную от настоящей, между ними еще двадцать веков назад был возведен барьер. Здесь, на нашей стороне, светилась правда высказанная раз и навсегда; на другой громоздились темные заблуждения. Все остальное в истории человеческой мысли оставалось вне этого. И человеку приходиться отступать в замешательстве и смущении перед таким строгим предопределением.
Мы начинали осознавать благочестивый обман и в конце концов, должны были сделать открытие подобное тому, что дети не приходят из Парижа; более того мы уже это открыли для себя, но продолжали прикидываться, что не знаем. Эта имитация невинности необходимая, чтобы спокойно дойти до конца нашего школьного пути, начинает разрушать источник духовной надежности, делая подозрительным все понятия, подкладывая мину под основы уважения к знаниям, стала последней причиной апатии и неизмеримой неудовлетворенности.
Мы научились опровергать Канта в пять пунктов, а также Гегеля, Конта и многих других. Оппонировали, атакуя ошибки подходящими возражениями: «1-ое — он противостоит учению церкви… 2-ое — прямо ведет к многобожию…», и прочие неопровержимые доводы. Позитивизм спорил с материализмом непристойными определениями. Пантеизм был отвратителен. Над евреем Спинозой мы должны смеяться! А в тот день, когда падре преподаватель Естественного Права заставил нас прочитать в наказание несколько строк из Санс дель Рио[Хулиан Санс дель Рио (Julián Sanz del Río) (1814- 1869) – испанский философ, юрист и педагог], то нас охватила опасность, которая существует для здорового разума, как для овцы, убежавшей от отары. Гегеля мы с неистовством стирали в порошок. Мы брали пример у профессора из Мадрида, который после объяснения урока, касающегося гегельянства, с большим ехидством говорил: «Так с Гегелем мы уже покончили…». Это был самый опасный враг. В доказательство тот же самый преподаватель выпаливал аргумент: «Сеньоры, Гегель был монархистом…!», а если уж падре случалось сказать, как некоторые утверждают: «Гегель – это самый мощный ум, когда-либо ходивший по земле», то это уже было большим допущением с его стороны.
Более неуступчивыми мы были к идее реставрации режимов, чем консервации вероучения. На литературных диспутах мы должны были рассуждать силлогизмами. Два раза я представал перед всей школой с защитой тезисов. Падре Бланко доверил мне первый: «Красота, как сверхчувственное качество». Тогда и начала утверждаться моя репутация. На следующий год мы приступили к публичному разбирательству судебного спора одного римского гражданина. Я представил им свои выводы. Противная сторона выстрелила по мне жестким силлогизмом. Не уступая, я крикнул:
—Ваши утверждения ошибочны![В оригинале: ¡Niego la mayor! – буквально отрицаю или не верю в большинство. В диспуте это главный намек на первое предположение силлогизма. Если кто-то говорит, что я отрицаю большинство, то он говорит, что не верит утверждению, с которого начинается рассуждение, что дискредитирует его выводы; то есть ему кажется, что аргументация ошибочна с самого начала.]
—Почему ошибочны? – возразил он растерянно. Больше в ту ночь мы не дискутировали.
VII
Сидя спиной к саду у балюстрады Галереи Выздоравливающих, падре V. украшал неуклюжими рифмами многочисленные стихи о призраках, шествиях скелетов, покаянные песнопения и другие атрибуты загробной жизни. Он был выходец из деревни, с лицом багрового цвета, приглушенным голосом, атлетического сложения, спокойным взглядом, не очень развитыми манерами с претензией на изысканность. Вид у него был стеснительный, как у парня, попавшего в новую кампанию, с долей приличной стыдливости, был полным, не смотря на возраст, и имел вид далекий от монаха заморенного воздержанием. Его скромность с трудом выдерживала дар переполняющего его здоровья и дородного тела, и он предпочел бы скрывать эти чрезмерные милости, которые ломали монастырский канон и служили причиной возмущения, лицемерного возмущения, среди распутников.
Школьники досаждали ему намеками, касающиеся кормежки, и без того багровое лицо его начинало пылать огнем. Эти насмешки причиняли ему боль, не потому что были точными, а потому что были несправедливыми и он старался доказывать, что не был рабом своего желудка. Он говорил только о серьезных вещах. Скупой на слова, опасаясь подорвать свой авторитет, он говорил, опустив глаза к долу, со стыдливостью беременной послушницы. Будучи ни раскованным, как некоторые, ни простодушным, как почти все, среди своих единоверцев он выделялся своей застенчивостью, и это было на самом деле. Но с другой стороны это было не так, если сравнивать по контрасту между его ловкостью и тем, что внушал его облик. Каждому всегда хотелось увидеть, как он, отшвырнув сутану и закатав рукава рубахи, жестами и голосом нарушающими все приличия, драл с покупателей втридорога на главной городской площади; или, как он, возвращаясь в свою деревню на обмолоте погонял крепким матом мулов. Впрочем, в подобном теле скрывалась впечатлительная душа.
В описываемое мною время, падре V., читал заупокойные стихи, выражая чувства соответствующие моменту. Охваченный вечерней жутью, он поднимал плечи, тряс руками, хмурил брови, нарушал ритм стихов, растягивая звонкие каденции, однако не решался повышать голос. До сих пор нас посещает чувство видения блуждающих останков людей в процессе перехода в мир иной. Из сада шел аромат самшита, окна келий монастыря отбрасывали блеск, из пруда исходил мерцающий свет. Ощущения разбросанные, слабые, как обломки кораблекрушения в успокоившемся после бури море. В такое время в деревенской кухне падре Y. говорили о казненных, о появлении мертвецов. Об этом же говорил и монах. Он придавал своей декламации таинственный акцент, заклиная своим приглушенным голосом строения Сан Лоренцо, заполненные светящимися саванами и воплями об искуплении грехов. Однако души, на которые ссылался падре, были важными лицами: души императоров, королей, богословов. Падре читал в Галерее Выздоравливающих «Помилуй мя Боже» (Miserere)[Miserere - (лат. умилосердись) католический 50-й псалом, начинающийся словами: miserere mei, Domine! Помилуй мя, Боже.] Нуньеса де Арке[Гаспар Нуньес де Арсе (Gaspar Núñez de Arce) (1834-1903) — испанский поэт, драматург и политический деятель.]. Воздействие от ночи, от монастыря, страх перед смертью, освобождали его эмоции, и он уже не мог втиснуть их в русло тех сказок, которые нравятся в детстве, и они выливались в самые высокие поэтические формы, принадлежащие его духу облагороженному священным саном.
Падре V. простым языком объяснял нам доступнее всех в монастыре, мы очень хорошо понимали развиваемые им идеи о смерти, искуплении и вечности. Эти понятия становились частью нашей духовной сущности и сопровождали нас с того времени постоянно и казалось, что мы не приобрели их в каком-то возрасте, а они всегда существовали в нас самих. Они оказывали на наши мышление и действия большое влияние, заставляли понимать последствия наших личных поступков в бесконечности. И прежде всего, в уверенности неизбежности наказания, осознания явления высшей силы, такой пугающей.
А мы почти еще дети, не имеющие ответственности перед миром, который защищал нас тысячами способов, в глубине души должны были выдержать тот громоподобный глас, который неизвестно откуда шел, а ты был один, и некуда было от него укрыться. Формирование чувства вины раскрепощало, делало нас взрослее, продвигало по жизни более чем, соответствовал наш возраст, и внутренне мы видели себя мужчинами. Большое количество образов имели мы для наглядности, чтобы представить себе увядание души и не пытаться, поэтому стареть преждевременно. Но и дар быстрой зрелости, когда ты мог придти к грехопадению, приводил в ужас, и было бы лучше пройтись снова по проторенному пути, задержаться в детстве, чем спешить вперед.
Ах! Это уныние юноши, убедившегося в том, что запятнал ослепительную белизну своей жизни. Представь себе, что в одно мгновение ты пустил ее по ветру; пошли ко всем чертям мысль о досаде за то, что тебе не хватает того, что могло бы быть, но не осуществилось; перенеси боль от осознания того, что ты сам вышвырнул себя из рая. Однако признание вины, есть знак мужественности, оно позволяет нам вырасти в глазах. Не раз, перестав поучать себя, я задавался вопросом: «Как я мог стать настолько скверным?». Это было лукавством, тем не менее, я находил в этом укрытие неприступное для кары, в котором можно оправдаться и где ждет тебя утомительная слава бунтаря, вцепившегося в свою пагубу и никогда не просящего прощения.
Я очень хорошо знал место, которое тщеславие занимает в списке смертных грехов, известны мне были и ее признаки. Когда оно показывалось, то усмиряло меня словами: «Да, ты можешь это, но это не для тебя, а для Него!». Я отказывался от понимания безграничной власти и увещеваний подчиняться ей, однако мысль обнаружить в глубине сердца непоколебимые душевные силы, наводила на меня страх. Других, способность к дурному сводила с ума. Будучи слишком чувствительными, они вопияли от любого дуновения. «Считаешь меня Иудой, какая разница?» — пришел сказать мне один расстроенный школяр, сжигаемый угрызениями совести. — «Хоть на крупинку, но меньше безысходность!». Он потерял надежду и все, он жил, не дерзая сбежать от врат смерти, испытывая настоящие неискупимые муки предназначенные ему свыше.
От страха перед религией многие ученики замкнулись в себе. Среди них в небольшом количестве были неверующие и верующие в целом равнодушные к вере, таковыми были почти все мы. Однако были среди них и вполне богобоязненные верующие, которые истово исполняли свой долг с бесстрастной пунктуальностью. Они были старательными и смиренными, исполнявшими все предписания и поэтому считали себя вписанными в реестр избранных. Неверующие не могли должным образом мотивировать свое отступничество, так как, не знали хорошо иврит, греческий, сирийский или арамейский языки, чтобы критиковать источники христианской вероучения. Их неверие не базировалось на философии или филологии, поэтому было спонтанным и примитивным: «Истинные язычники, — говорили о них монахи, — как будто бы Христос не явился, чтобы пострадать, в том числе и за них».
Некоторые из этого числа были отъявленными богохульниками, чем не пример для того, чтобы Провидение явило нам чудо, избрав их, для поучительного наказания. Кощунства, которыми они бахвалились, производили больше удивление, чем скандал, возможно поэтому, чудо не происходило. А может потому, что Оно не хотело дискредитировать школу или потому что другие, активно исповедующие веру, выкупали грехи этих безобразников. Религиозное рвение легко овладевает нами в юном возрасте, и став частью нашего поведения, обращается в страдание. Но пока что, никто не стремился к этому. Никого не видел я также обращающимся к вере в поисках покоя, мира и утешения. Как бы ни распространялась эта зараза, медленно или молниеносно, но причина религиозной активности крылась в ужасе, покоряющем впечатлительную душу перед удручающей очевидностью реальности загробной жизни.
Одержимый этим взглядом бросался поневоле на дорожку, усыпанную горячими углями, присоединяясь к жалкой веренице себе подобных, количество которых увеличивалось с каждым шагом по мере приближения к жерлу ада. Возможности скрыться не было, смерть блуждала рядом и швыряла беглецов снова на дорогу. Еще на пороге религиозной жизни на нас обрушивался страх. Это был страх плоти ждущей наказания уже только от одного чувства угрозы, которую непредсказуемый случай призван был сыграть с нами в наш последний час.
Что касается меня, то смерть имела для меня лишь одно значение - гибель тела, уже насытившегося физической болью, сладострастно наряженного в невинные наряды смиреной жертвы, приученного к самопожертвованию, и я буду наслаждаться чужим сочувствием, этой сладкой анестезией от воображаемой боли. Но никогда смерть не будет концом. Там начинается новое существование отличимое от настоящего двумя чертами: отсутствием свободы и неизменностью. В этом земном мире моя свобода воли была насильно подавлена тем, что я обязан был иметь твердые чувства, имеющие, вроде бы, какую-то ценность и раскрыть их было важнейшей обязанностью этой жизни. В другой жизни было не так. Если представим смерть, как силу, укладывающую в штабеля безжизненные лики и имеющую зловещий внешний вид, то значит, о будущей жизни мы сформируем картину, отображающую только ее мучения.
Умозрительное понятие божественного было для нас недоступно. Бог, как только прекращал быть Господом добродушным, с белоснежной бородой, который держал нас на руках в течение нашего детства, трансформировался в некий треугольник с глазом посередине. Из рая были изгнаны чувственные удовольствия, а вот лишения и строгости ада оставались в прежнем порядке. Основным понятным мотивом, который лежал в основе религиозного долга и вызывал к действию движущие пружины наших поступков, был страх перед ожидающими нас страданиями. На этом энергичнее всего делали акцент в своих поучениях наши наставники.
Те, в ком загоралось сильное чувство религиозного долга, были для Эскориала приманкой, для пополнения его благосостояния. В Сан Лоренцо люди обращались за Святыми Дарами для причащения, эстампами на тему Муки Христа, фотографированием покойников. В Эскориале проходили похороны, религиозные поминовения, сюда вкладывали пожертвования и вносили плату в искупление вины. Все эти вещи беспрепятственно проникали в сознание людей, обремененных одной и той же тревогой. Чувства, которыми, при этом, руководствовались люди, были те же самые, в то время я мог рассказывать о них, описывать их другой душе, как если бы меня расспрашивали о вкусе моей крови или о волне часто пробегающего под кожей и вгоняющей мое тело в жар.
Уходя далеко в своих фантазиях, я представлял, как мы сносим монастырь, чтобы установить его камни в другом порядке, например, могли бы сложить из них обелиск или усыпальницу. Сменив структуру, изменится ли что-либо, если суть остается прежней? Значимость творения снижается от благочестивых намерений. Большее значение имеет государь созидатель и забота его о душе, чем архитектор и его талант. Предназначение правителя, представая перед смертью, как предписано этой грозной машиной - церковью, учредить монастырскую школу, которая век за веком будет изливать свои мольбы в его постоянно открытую могилу. Это нужно для того чтобы его смерть была актуальна во все дни, а молитвы смягчали наше горе. Считаю необходимым даровать почившему королю, возвеличенному на просторах его великой церкви и всем покойникам его рода, которые взывают о милосердии ко всем верующим милостыню от моего сочувствия.
Во время глории[Глория (la gloria) – часть католической литургии, в которой славится Господь или человек по ком совершается месса.] императору Карлу V и его сыну Филиппу[У автора написано «группа Леони» (grupo de Leone) – статуи императора Карла V и его сына Филиппа выполненные для собора Сан-Лоренцо монастыря Эскориала миланским скульптором Леоне Леони и его сыном Помпео Леони в конце 80-90 годы 16 века.] души сдержано преклоняясь, молят их величественные статуи из бронзы, с покровов которых свечи срывают золотые лучи. На стенах базилики, вокруг черной усыпальницы, их скорбные души дрожат в пламени лучей и испускают просьбы о покое. Едва заканчивается траурная литургия, как души исчезают, переселяясь из этого мира, в их памяти воскрешается едкая брань, прозвучавшая в их адрес, едва лишь их тела охладели. И это не дает им спокойно почить в бозе. В кавернах под Эскориалом они влачат шаткое временное существование в ожидании вечного забвения, которое приходит к каждому в соответствии с положением, которое они занимали при жизни. Тела убирают с полок, где они находились непогребенными и предают земле. Как только земля их поглощает, души успокаиваются, а в базилики по ним прекращаются траурные песнопения.
VIII
Вновь прилетели аисты, а с ними пришли Сретение[Сретение (Candelaria) — Сретение Господне, Принесение во Храм. Католики отмечают 2 февраля.] и день Святого Власия[Святой Власий (San Blas) — Власий Севастийский — христианский святой, почитаемый в лике священномучеников.], все это означало, что наступил февраль и по такому поводу у нас был устроен праздник. Факт прилета птиц для нас был так же важен, как и Сретение, что же касается дня Святого Власия, то он с каждым годом становился для нас менее значимым. Могу сказать, что был свидетелем исчезновения одной из благородных школьных традиций. Святой Власий был современником римской эпохи таким же, как Святой Емилиан, Святой Мартин, Святой Факунд, имевшие восемь веков назад многочисленных почитателей, но сохранились ли таковые сегодня хотя бы несколько? А может, кто-то из святых стал покровителем провинциального города, местным авторитетом? Думаю на этот вопрос можно ответить положительно.
Святой Власий был покровителем простых селян, Бог-рубеж, между владельцами поместий и крестьянами, воздвигнутый у пшеничного поля на открытой и скудной земле. К лесным демонам обитающих в сырых местах он не имел отношения. Он был грубым, как пшеничная шелуха и упертым, что хорошо подтверждают поговорки: «В комедии, что не крестьянин тот Власий» или «Любой Власий задыхается от недостатка крутого чесночного запаха». В школе мы, кто родились на сельской земле, не понаслышке знали, кто такой Святой Власий, однако аристократы, горцы и жители приморья были в неведении о достоинствах святого и даже насмехались над его именем, поэтому ответственным за его праздник приходилось говорить о нем обиняком.
Я был его последователем, в чем и признаюсь. В мое время, в богатом университетском наследии Алкалы центральное место занимало празднование дня Святого Власия, традиция, переходившая по наследству из подготовительных классов[В оригинале автор пишет «aulas ildefonsinas – буквально ильдефонистские классы», речь идет о подготовительных классах Колледжа Святого Ильдефонса открытого по указу императора Карла V в 1543 году для обучения грамотности сирот и детей из бедных семей.] в школы и колледжи. Это была самая почитаемая из всех традиция, оставшаяся у них. Руководство местной епархии и университета были далеки от науки и в обиходе опирались на местные обычаи, поэтому на Святого Власия установили каникулярные дни. Этот обычай пришел из городка Меко, громада храма которого возвышалась на краю долины, высовываясь из городка, где Энарес дремал немощный и дрожащий, поэтому хорошо была видна невооруженным взглядом. В Меко, культ Святого Власия был официальным и всенародным, оттуда алкалинские ученики приносили нам замысловато сплетенные блестящие баранки, такие твердые, что возможно их выделывали из сосновой доски покрытой лаком.
В отношении святого мы вели себя так, как если бы святой был местным уроженцем, возможно даже живущий в соседнем городке. Я имел о его личности конкретное представление по его скульптуре, очень почитаемой в доме моего дедушки. Фигура была вырезана из дерева, размалевана охрой, у него было простодушное лицо, прямые позолоченные волосы, одежда длинная до пят, а в зрачках две черные стеклянные бусинки. Скульптура помогала мне представить воочию лица из рассказов о загробной жизни, которые я учил в детстве. А также, не буду скрывать, использовали ее, проявляя свой мятежный дух, когда, не будучи богатырями, я и другие мальчики впервые пытались бросить вызов небесам, буравя святому пупок, приклеивая к губам сигарету, скрученную из бумаги, и вынимали ему глаза. Нам было страшно видеть, что эти оскорбления оставались безнаказанными.
Между тем, начало февраля ознаменовалось благоприятными и милостивыми приметами, аист проклевывал в буром шатре облаков просвет, сквозь который светилось небо, за скалы цеплялись густые хлопья тумана, которые март не замедлит смести. Приятная безмятежность этих первых дней покоя, дней, которые поначалу тянутся, а в конце, прежде чем уйти в небытие и вовсе останавливаются. Эскориал остается один на один с хлюпающей тишиной своих поздних сумерек, когда его шпили теряют свое золото, гаснет блеск его кровли, окружающий его лес погружается в тень и лишь на горизонте пылает узкой полосой багровое пламя огней Мадрида.
Сеньора Плоть и сеньор Пост состязались за наше время, а правильнее сказать вели в наших сердцах нескончаемую войну. В своих мечтах мы желали сделать что-нибудь подобное далеким шумным гулянкам, однако, наши школьные праздники были настолько детскими, что едва ли могли с ними сравнится. Скольким из нас находившимся в свои пятнадцать лет в беспричинном унынии, приходилось искать утешения во всенощных богослужениях. В эти часы базилика принимала нас с необычайной кротостью и, не утешая, ласкала душу встревоженную неведомыми желаниями.
IX
Из мирских развлечений, которые предоставлялись нам на Масленицу, наиболее значимым был театр. Это была дань уважения духу времени, распространяемая на все дни праздника. Для постановок в бильярдной или на первом этаже обители устанавливался помост. Специального помещения для представления не было, так как муза театра еще не обосновалась в школе. В те же дни проводились литературные вечера посвященные именинам ректора[День ангела — именины ректора (El santo del rector) — один из обязательных праздников католических школ и колледжей.] и Святому Августину. Однажды день Святой Моники отмечали у нас представлением быков с огненными шарами на рогах[Быки с огненными шарами на рогах (El toro embolado) — традиционное празднество в Испании, когда на рога быка крепятся огненные шары. Происхождение обычая неизвестно.]. К несчастью два молодых быка участвовавших в представлении вопреки всем ожиданиям погибли. После этого происшествия коррида была осуждена наиболее строгими монахами и больше ее не проводили. Проходивший без крови и грохота театр казался безвредным для дисциплины и не нарушал установленного порядка.
Необыкновенная блеклость не сильно привлекала учеников к этим праздникам, в них не ощущалось вкуса, все происходило символично и благопристойно, одно было похоже на другое. Разумеется эти меры предосторожности, дабы виденное не возбуждало наше воображения, были тщетными. В этом Сен-Сире[Сен-Сир — особая военная школа — высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой кадров для французского офицерства и жандармерии.] для девственников отданного под высокое покровительство, как у мадам Мантенон[мадам Ментенон — Франсуаза д’Обинье, маркиза де Ментенон фавориткой короля, с 1683 г. его морганатическая жена.], все должно было быть благопристойным. Здесь ставили пьесы Карлоса Арничоса[Карлос Арничес-и-Баррера (Carlos Arniches y Barrera) (1866 - 1943)— испанский драматург, культивировавший на испанской сцене «хенеро чико» — «малый жанр».], дополняя их произведениями Расина. Однако, старясь сохранить нашу целомудренность, такие пьесы Расина, как «Есфирь» или «Аталия» конечно же, не ставились.
Мы сохраняли свой простонародный вкус, который не становился более утонченным, и благодаря этому вступая однажды в мир, где нам предназначено блистать, разочарование наше будет менее горьким. На подмостках нам позволялось имитировать разницу полов, но эта привилегия никогда не приносила удовольствие малолетним учащимся средней школы. Много раз я видел этих несчастных, игравших в популярных оперетках, перевоплощенных в любовников и ведущих амурные диалоги сомнительного содержания. Более омерзительной нелепости нельзя было себе представить, и конечно все это в грубой форме играло на руку нашей распущенности. В университете мы не подвергались подобному бесчестью. У нас были стройные и кокетливые юнцы, которые хорошо подходили на роль барышень, так как кроме смазливости они обладали еще преждевременной полнотой, неторопливой речью, и были в состоянии раскрыть во всей силе женскую натуру.
В хор принудительно набирали учеников, обладавших высоким голосом. Их загоняли в класс фортепиано, где из расстроенной какофонии криков извлекаемых из множества целомудренных глоток пытались установить хотя бы какое-то подобие хорового пения. Пианист, студент из Понтеведра[Понтеведра — город на западе Испании, столица одноименной провинции в Галисии.], весельчак и человек не лишенный сентиментальности, был вождем веселой компании школьников, в которую он попал от тоски по своей Галисии. Часто вечерами в ходе учебного года, когда заканчивались уроки, чтобы утолить свою тихую печаль, он садился за пианино и час за часом наигрывал народные галисийские напевы и серенады. Трое или четверо его приятелей из нас, присутствовали при этом действе. Нежная музыка и жалобные интонации песен, напоминавшие рыдания и горестные вздохи, заставляла сжиматься наши сердца. Мы смотрели через оконную решетку на внутренний двор, он был мрачный и безлюдный. Из монастыря доносился звон колоколов, шла заупокойная молитва по одному из разложившихся в подземелье королей, от всего этого нас охватывала смутная тоска.
Тоска о чем? О голодных днях, о других местах заточения, о неудовлетворенных увядших желаниях. Или, скорее всего, о свободе воли, прячущейся в потемках души, где она безропотно находилась в состоянии скрытого неповиновения и, сокрушаясь, собирала в кулак неукротимую волю, готовя ее к будущей мести. «Какими счастливыми мы будем, выйдя отсюда!» - уверяли мы себя. Лишь отбросив внешние ограничения накладываемые школой на все стороны нашей жизни, мы заживем по настоящему, как диктует нам наше тщеславие, которое мы согласны будем пока надежно спрятать в тайнике своей души.
Не помню, в какой день, в класс фортепиано вошел падре Флоренсио. Галисиец перестал играть и петь. Все встали. Я читал у окна «Комический Мадрид»[Комический Мадрид (Madrid Cómico) — испанский еженедельный сатирический журнал, издававшийся в 1880-1923 годах.]. Падре Флоренсио попросил у меня журнал и, полистав его, остановил внимание на одной статье. Едва прочитал он первые строки, как язвительная улыбка открыла его большие и желтые лошадиные зубы. Со злостью он разодрал бумагу на мелкие кусочки, приговаривая при этом: «Этот сеньор Синезий[Sinesio или Синезий из Кирены (370 – 413 гг.) христианский богослов, философ-неоплатоник, епископ Птолемаидский. Платон, платонизм и неоплатонизм были преданы анафеме на V Вселенском соборе в Константинополе (553), поэтому имя Синезия носило в клерикальных кругах порицательное значение.]…! Этот сеньор Синезий…!». Для юноши считавшего себя выше падре Флоренсио, и даже самого (я уже упоминал о нашем тщеславии) «сеньора Синезия», это было ужасным унижением. Кроме того, я заблуждался насчет падре и поздно обнаружил, что этот остряк был наместником Сатаны на земле.
Моим первым учителем музыки был падре Рафаэль. Воистину его крестницей была муза Евтерпа, от которой он еще в колыбели получил в дар свою знаменитую скрипку. Прежний учитель падре Аростеги, был из басков. В своей черной огромного размера мантии, копной белых густых волос и загадочной улыбкой был похож на бритого волшебника Мерлина. Когда он умер, то падре Рафаэль водрузил на себя музыкальную корону школы. В работе он был очень деятельным. Однажды нас посетил Хесус де Монастерио[Хесус де Монастерио-и-Агуэрос (Jesús de Monasterio y Agüeros) (1836-1903) —испанский скрипача и композитор.]. Собравшиеся в ректорской монахи и ученики, попросили его сыграть что-нибудь. Принесли скрипку падре Рафаэля. Де Монастерио одарил нас своей очень трогательной пьесой «Прощание с Альгамброй». Мы были потрясены игрой маэстро. Некоторые монахи утверждали, что Сарасате[Пабло де Сарасате (Martín Melitón Pablo de Sarasate y Navascués) (1844 –1908) испанский скрипач и композитор] исполнял ее лучше, так как имел более длинные пальцы, но де Монастерио играл с большим чувством. Закончив, маэстро казался вспотевшим и, отложив скрипку, воскликнул:
—Эта скрипка кирасира!
Падре Рафаэль смущенно улыбался. Он был кротким, как ангел. Ему казалось, что он на Небесах среди Повелителей и Престолов отрывает руки игрой на своей железной скрипке и сам Господь воздает ему хвалу.
Падре Рафаэль в основном занимался Гражданским правом. В тот год, когда я еле полз по могучим ветвям древа юридических наук, добрый падре накануне Масленицы занимался со мною два раза в день. Утром мы усердствовали над кодексами, а вечером он обучал нас на слух музыке из комедии Африканцы. Надо заметить, что на обучение сарсуэле к падре приходило больше людей, чем на уроки по праву, однако за гораздо меньший труд на сцене нам доставались лавры, которые мы никогда бы не заслужили в учебном классе.
На его курсе нас училось шестеро или семеро учеников еще из того поколения, которые своими глазами видели, как он скакал на кобыле Юла по аудитории метафизики. Теперь уже в жизни школы для нас не было никаких секретов. Свои обязанности и нудную каждодневную рутину мы выполняли без смущения, волнения, спешки, с уверенностью и спокойствием свойственной зрелости. В крошечном мире школы и монашества мы по жизни были еще очень молоды, но во всем, что касалось улицы, мы были взрослыми мужчинами. С первого дня падре Рафаэль собирал нас в своей келье. Мы вникали в книгу текстов. Вскоре я заметил, что всех нас ожидал один и тот же сюрприз. Между нами и падре зародилось чувство товарищества, с которым растет уважение и пробуждается все больше и больше ранняя и сердечная привязанность, которую мы испытывали к нему. Мы любили его по-братски, он был нам, как старший брат, рассудительный и добрый. Ему пришлось крепко потрудиться, чтобы пройти по тернистым путям добродетели и учения, в то время как мы резвились от нечего делать на лужайках. Живой в общении, со сбивающейся речью по причине старания сдержать заикание, внешне он выглядел грубым, но это была маска, скрывающая его наикротчайшее сердце. Он тоже нас искренне любил. Хотя, в иной вечер он извергал вспышки ярости, которая выглядела скорее забавной, чем злой. Он напоминал тогда человека, который некстати пытается восстановить свое утраченное превосходство. И было видно, что в момент раздражения он чувствует неловкость, производил непривычные своей натуре телодвижения, ярость терзала, и опустошало его, как будто бы он испивал горькую чашу. Мы просиживали вокруг стола в его келье в дружеской беседе большую часть зимнего утра. От нечего делать я брал в оборот шевелюру Шиллера на статуэтке из свинца, водруженной на секретере. Никакими сокровищами не измерить терпение монаха смотревшего, как ученики покрывали надписями и рисунками поверхность его стола. Он создавал все условия для хорошего настроения.
Едва войдя в класс, кое-кто имел обыкновение вытащить из кармана огромный железный костыль и молоток, и забить его, куда ни попадя, будь то стена или книжная полка, оконная рама или ширма. Затем со всей серьезностью вешал свою беретку на костыль. Падре Рафаэль смотрел на все это с недовольной гримасой, а в конце лишь пожимал плечами. Однажды я принес в класс палочку, желая ею каким-нибудь образом докучать ему. Он приказал мне выкинуть ее и пригрозил. Я не подчинился. Он снова стал угрожать мне, а я опять не обратил внимание. Тогда он поднялся и, схватив меня за руки, заставил отпустить палку, затем изломав, выбросил ее куски из окна. На другой день мы явились с разным оружием: клюшкой для игры в поло, кубинским мачете и револьвером. Все сели на свои места.
—Куда вы идете со всем этим?
—Это для защиты наших прав падре. Si vis pacem... [Si vis pacem, para bellum (рус. «хочешь мира — готовься к войне») — латинская фраза, авторство которой приписывается римскому историку Корнелию.]
Это был первый и единственный раз, когда он вышвырнул нас из класса.
К нашему несчастью, время бежит быстрее, чем наши учебные занятия, поэтому конец курса застал нас врасплох. Падре сокрушался, что мы не попробовали даже на зуб большую часть текста. Затем он выяснил, сколько осталось рабочих дней, и разделил непрочитанные страницы книги на каждый из них. На день приходилось тридцать четыре страницы. Быстрыми шагами мы, подключив все свои способности, принялись за выполнение этой, казалось бы, невыполнимой задачи. Вот и конец четвертого и последнего тома. Но чего нам это стоило: ежедневное до тошноты сидение за столом в келье уча законы и преодолевая трудности; быстрое за несколько минут поглощение остатков не перевариваемой стряпни и каждый день опять указание падре: «На завтра следующие тридцать четыре страницы».
На уроках музыки падре брал в руку дирижерскую палочку, свернутую из бумаги, и мы начинали петь вместе в унисон до изнеможения раз за разом сарсуэлу. Кто видел это представление в Мадриде, мог бы помочь нам добрыми советами, как сохранить здоровье. В связи с одним трагическим событием нам пришлось на время прервать занятие. Однажды вечером мы завершили репетицию, чтобы принять участие в похоронах мальчика, умершего в школе Альфонса ХII. Прибыли на кладбище, когда уже смеркалось. Гроб установили у могилки и открыли крышку. Мы увидели в ящике мертвого окоченевшего школьника. Отпев положенное, предали его земле и во всю прыть, подгоняемые холодом, отправились назад в школу.
И снова мы стоим вокруг пианино, нельзя было терять время и мы с жадностью принялись за работу и с таким неистовством долбили бойкий припев, что его надрывные интонации звенели уже в ушах. Наша музыка перекликается с пением псалмов священниками. Вдруг показалось, что в промежутке между нашими пустыми развлечениями мы, стоя у края внезапно открывшейся могилы, поем пошлую песню. Мы навсегда прониклись глубокой, безутешной печалью, как и тот мертвый школьник, который уже вечно не будет иметь другого способа, предстать в наших душах не иначе, как в службах, проходящих в забавных ритмах. Мы будем помнить кладбище и ветер, бьющийся об ограду и разносящий по окрестностям заупокойную молитву, заостренное лицо, и матовый лоб под потоком черных волос, на котором застыл пот и отблеск затуманенного глаза в щели полуоткрытых век.
X
Боязнь, охватившая меня в начале учебы, сменилась сильным унынием, но ежедневные занятия увлекли меня настолько, что очень скоро я пришел в себя. Может я и лукавлю, однако было осознание того, что прогресс в учебе сдерживался моей запущенностью. Я заглушил в себе желание заниматься абсолютно всем, и мне было жаль видеть, как ослабевает мое усердие. Я понял, что эти неурядицы шли от моего прошлого опыта, давно устаревшего, сформулированного в идеях, которые поддерживали кипение моей жизни, как скелет тело. В конце концов, зарождающиеся надежды обратились в разочарование, и я решил не терзать себя великими душевными муками, боясь или уповая на свою слабость, ведь быть великодушным к себе, мне не было запрещено.
Меня не прельщала перспектива быть втянутым в монашество, в эту исключительную, но жестокую в своей ограниченности жизнь. Да и рано мне было туда, ведь я отнюдь еще не игнорировал детские игры, и одна только мысль, что стану монахом пугала меня. Моя религиозность была мала, если не сказать, что вообще была нулевой. Я шел в религию за толпой, на поводу у обстоятельств, но возможно были и другие причины, которые основывались на моем религиозном потенциале. Я не очень сведущ в этой области, если сравнить количество и качество моих знаний, с тем, что имеют другие, то понимаю, сколь многому мне еще надо учиться. На все окружающее в мире и на то, что остается в моей памяти, как правило, я смотрел с выжидающим равнодушием. Возможно, религия лишила меня многих замечательных качеств, оставив в мучительном одиночестве в борьбе с моим личным богом, без туманного присутствия божественного и его неизменного содействия, о котором рассказывают другие. Из-за своей апатичности я поздно, с изумлением, обнаружил, что меня увлекло в омут религиозного бреда. Это произошло, без какого-либо яростного давления и поэтому ни в какой чувственной форме я не мог этого узреть, и по этой причине не смог уклониться ни от самой религиозности, ни от удушающей горечи необходимости ощущать ее в себе. То, что я в себе открыл, поразило, смяло, захватило меня беззащитным, прежде чем я хотя бы узнал, что подобное существует, какие признаки оно имеет и чем заманивают в этот омут людей.
В Алкала я имел одного франтоватого духовника, который приветствовал меня в исповедальне вежливыми словами и трепал за уши, а после нескольких анекдотов, в заключении рекомендовал, по возвращении домой, целовать руки[Целования руки (исп. besamanos) – обычай, пришедший в Испанию с Востока, согласно которому в знак преданности и почтения графы и знатные сеньоры целовали правую руку королю. Священнослужители имели привилегию не целовать руку королю.] моим старшим. И как только у этого сюртука не сгорели губы, сказать такое! И не сгнил он, как другие люди за свою ересь. Пусть бы занимался тем, что у него получается лучше, завязывает и развязывает свои шелковые галстуки. Благодаря этому священнику все, что было связано с церковью, не вселяло в меня боязнь. Не знаю, каким образом и откуда он приобрел фундаментальные основы знаний, и имел способность, при необходимости, точно все пересказать заново. Больше всего мне нравились его рассказы по географии Азии и о королях вестготов, они до сих пор хранятся в моей памяти.
В город прибыли миссионеры. Мы собрались в главном здании школы в Алкале, и видели, как в читальный зал вошли двое священников и двое иезуитов со здоровенными распятиями на груди. Все встали. Они пришли уговорить нас ассистировать им на проповеди этим вечером. Директор заверил их от имени всех, что мы будем ассистировать. Большего безрассудства, чем согласие на это я никогда не совершал в жизни. Те же самые люди, которые запрещали нам выходить одним и следили за нашими разговорами и тем, что мы читаем, теперь отпускали нас туда, где бушевали ураганы дискуссий, и нас могли там попросту переломать, что видимо их нисколько не заботило.
В храме было сумрачно, по углам саркофага великого кардинала укрытого траурной накидкой в вышине на стойках обернутых также черной тканью горели четыре бледных светильника. Лампы светились только в приделе. Толпа страждущих теснилась у кафедры. По горячему потоку слов и патетическим интонациям я узнал иезуита уговаривавшего нас в школе. Он говорил об аде, нагромождая одну картину за другой, которые тотчас вспыхивали и сверкали, как если бы кто-то брал из дровяного сарая связки лозы и бросал их в огонь. Из атриума, главного придела капеллы, один человек разразился криком: «Это ложь!». Придя в себя от внезапной атаки, иезуит обрушился на недоверчивого прихожанина ужасными риторическими оплеухами, посылая их на всякий случай ко всей массе, так как в темноте не было возможности определить, к кому конкретно обращаться. Своей руганью он заглушил крики и рыдания женщин, и победоносно оглядывал аудиторию, растроганный самим собою.
Вскоре я почувствовал, что все происходящее касается лично и исключительно меня, а иезуит оглашает мое тайное прошлое. Какая-то рука вылезла из темноты и, ухватив меня за волосы, высоко подняла, чтобы все видели о ком идет речь. Ужас объял меня всего. Что-то, чего я не хотел, должно было произойти, и поэтому сопротивляюсь. Ах! Если бы достаточно было закрыть глаза, чтобы это прекратилось! Ищу, за что ухватиться, в тот момент я очень хотел, чтобы жизнь моя продолжалась, — «Неужели это закончится моей смертью?» Не нашел за что удержаться, скатываюсь в пропасть и то, что не должно было случиться, произошло. «Пусть Бог войдет в ваше сердце!» — взывал иезуит. Не напрасно я его молил. У меня защемило сердце и, я разразился такими рыданиями, что вынужден был, вернувшись, домой спрятаться, чтобы не увидели следы моих слез.
Система Эскориала улавливала в нас кровоточащую жилку религиозного экстаза, упорядочивала этот порыв, переделывая его из чувства грубого и необузданного в приличное и покорное. Однако будучи обращенным, я не стал святошей, был не очень благочестивым и молился совсем чуть-чуть. Да и для чего эти молитвы, если пламя и решимость души сами умоляют посвятить себя настоящему моменту, не уповая на жертвоприношения и молитвы. Я хотел преодолеть прошлое, изменить его, вычистить из сознания все испорченное и тем самым заново воссоздать себя но, не справившись с этим, стал питать отвращение к былому.
Монахи образумили меня естественным путем. Они прояснили мне мои убеждения, я стал присматриваться, что было у других, и понял, что могу одновременно и надеяться и испытывать страх, в результате некоторые тревоги развеялись. Участие в мессах, молитвах, исповеданиях, молебнах, бдениях, держание поста сделали привычной для меня религию, находящуюся в согласии с жизнью, как часть ее обычаев имеющих свое время, ритуалы и термины. Замечательным результатом этой привычки стало мое исцеление от абсолютной детской чистоты и бескомпромиссной строгости, что соответствовало моей деструктивной логике. Ребенок, осененный благодатью, меньше всего желает умереть до срока, если только смерть не придет за ним, как за детьми-мучениками Алкала[Речь о Хусто и Пасторе (мальчики 7 и 9 лет), известных так же, как Святые дети, родившиеся в Алкале в эпоху римского владычества. Во времена гонений Диоклетиана на христиан в 304 году, губернатор испанской провинции Дациано за отказ Хусто и Пастора отречься от веры, приказал обезглавить их в числе других христиан. Впоследствии дети были причислены к лику святых детей-мучеников.], которые были обезглавлены.
От этих размышлений ко мне пришло отвращение к посредственности, а также к страху, как тот, что я пережил, когда один монах услышал мое геройское заявление, что предпочитаю, чтобы меня наказывали, чем каждый месяц ходить по установленному порядку исповедоваться в одних и тех же грехах. Думаю, что между адом для грешника и предназначением быть мучеником, находятся люди предпочитающие жить сегодняшним днем, кое-как, которым ничего не стоит упасть здесь, чтобы подняться там. Где же мое место, я не знал, пока в моей детской душе деспотичной и непреклонной не появляются намеки на сострадание, это означает, что мои религиозные убеждения пустили корни, и теперь чувственность будет беспокоить меня меньше. Понятие долга стало неотъемлемой частью моего сознания, а мучительное чувство, что судьба загублена, покинуло меня. Слепая любовь к религии уступила место необходимости понять, разобраться.
Монахи владели двумя методами наставлять души, первый — пугающий, угнетающий¸ второй — успокаивающий, именно этот я испытал на себе. Примером первого служил падре Унсилья. «Еще вчера, — рассказывал на проповеди падре, — один умирающий в предсмертном хрипе спрашивал меня: «Падре! Падре! Я буду спасен?» Так осуществлялся первый метод. Падре Унсилья, который применял его, был красавец, с благородными чертами лица, ясными большими глазами, обладал сочным баритоном. Будучи очень благодушным и отходчивым, он, принимаясь наставлять, становился невыносимо строгим. Некоторые от такой его твердости, боясь затруднений, торопились подобру-поздорову перебраться в другую группу, что вызывало в нас опасение и сильное уныние. Успокаивающий метод применял падре Вальдес. Этот монах выделялся своей излишней строгостью, он больше походил на священника, и нагонял страху, насколько это было возможным для управления нами. Он никогда не был фамильярным и даже общительным, а улыбка на его лице была знаменательным событием из-за своей редкости. Улыбался он неохотно, как бы принуждая себя, а черты его не очень приятного лица незамедлительно убирали и стирали остатки улыбки. К счастью он был более умным и сердечным, чем его собратья. Строгий в классе и в обители, он смягчался в часовне.
Он не унижал души страхом, не принуждал делать выбор между мужеством и вечными муками, а лишь призывал делать это по доброй воле и не более. Он внушал нам, что наиболее смиренные старания не останутся бесплодными и невознагражденными. Несмотря на свою холодность, он преисполнялся теплотой, осуществляя дела связанные с религией. В одно апрельское воскресенье мы трое, выйдя из часовни, наблюдали во дворе, как тяжелые струи фонтана, поднимаясь, разбиваются на серебряные струйки. Душа могла соперничать свежестью чистоты и новизны с наступившим днем, тело было охвачено блаженным зудом, порождающий сильный аппетит, который требовал немедленного утоления. В это время к нам подошел падре Вальдес, который прогуливался, читая свой молитвенник.
— Исповедовались и причастились? — спросил он нас. Мы ответили, что да и он некоторое время рассматривал нас. Вперив в меня глаза, он легонько шлепнул меня по щеке и воскликнул: — В таком случае ты прощен…?
Из глаз его полились слезы, и он удалился, ничего больше не добавив, возвратился спокойно к своим молитвам. После этого изъявления чувств, я не пытался стать к монаху ближе, чем был раньше, но я полюбил его сдержанность, которая облегчала мне тяжесть безнадежности и страха. Если до этого я напрасно искал непомерного удовлетворения, которое должно было возвратить мне покой, то теперь понял, что ничего не вернуть и не восстановить.
Я хорошо приспособился к этой грязи, вместо того, чтобы противостоять буре, попросту избегал ее, шел обходными путями, примирился с моральным уродством ничего общего, не имеющего с абсолютной безгрешностью, в которой состоит наш долг. Новый период жизни, в который я входил, казался мне фальшью, с одной стороны я получил силы и был теперь способен на многое, а с другой разные лазейки, так как пропускал мимо ушей веления голосов свыше. Эти недостатки одолели меня. Я покорился. Мне хотелось пребывать в юдоли раба. В мире без славы, непритязательных надежд и очень мрачном. Между тем похмелье от моего преждевременного обращения все еще напоминало о себе.
Я скатился до чувственной разнузданности, моей целью стало получение удовольствий. Душа, обретя спокойствие, с тревогой наблюдает, как я спасаюсь бегством, а в покое, который едва наступает, она более разумно оценивает собственное достоинство, прошлые взлеты и падения. Человек, выжимающий этот сок зрелости, радуется в своем тихом умиротворении, но радуется сдержанно, потому что возросла его мудрость. Я спокойно мог смотреть на пугающее буйство своего обращения, ведь моя мудрость не обладала чувством юмора, бремя веры довлело слишком сильно. Моя страсть могла бы быть блуждающим огнем, ветром или вовсе ничем. Возвратившись на землю, я больше не буду свободным. Это рискованное предприятие не выиграть с первой попытки, как это мог сделать Клавиленьо[Клавиленьо (Clavileño) – мифический деревянный конь с ручкой на лбу, с помощью которой им можно управлять. Присутствует в европейском и восточном фольклоре. Мигель Сервантес использовал Клавиленьо (Clavileño) в 40 и 41 главах второй части приключений Дон Кихота.]. Я продолжу до конца, однако конец – где он?
XI
Думаю, я не берег свои чувства, к такому выводу пришел, когда размышляя в келейном одиночестве, обнаружил равнодушие, исходящее от сердца к благочестивым побуждениям. Обычно заряд у этих чувств был такой силы, что их достаточно было, чтобы вслед за собой пробуждать различные аппетиты моей жизни и удовлетворять, как эротизм, так и благородные замыслы. Однако потихоньку они теряли свою силу. Твердый, как никогда в своих убеждениях, я вскоре перестал понимать, почему чувства волновали меня все меньше, и бродил в поисках средства от охлаждения своей страсти. Каждая новая ошибка вызывала у меня озноб. Заблуждаясь, сознание обвиняло во всем мое неверие. Я был привержен внутренней душевной целостности, и пока еще сохранял ее, благодаря тому, что научился обходить стороной грозовые места. Однако мне хотелось бы вкусить наслаждение пусть даже ценой смертельного акта самопожертвования, то есть довести его до степени самоистязания на алтаре бесстрастного языческого обряда, а еще было желание глубоко знать жизнь.
Часто стал ощущать повторяющийся упадок сил, впадал в прострацию, таков был результат занятий по усмирению общей активности души, замене ее другими чувствами, и я был доволен уже только тем, что они позволяли мне не игнорировать самого себя. Но, когда целостность начала разрушаться и огонь страсти, чуя другие соблазны, блуждает, оторванный от предмета религии, которой я вплоть до этого по существу лишь забавлялся, то мне казалось, что все уже потеряно, и милосердие, и вера. Мне хотелось пребывать в неистовой любви и быть израненным ее шпагой. Я искал причину увядающих порывов и пришел в ужас, когда понял, что самокопание не выведет меня из апатии. Вновь прошелся по годам своей жизни, встряхнул свою память, так любовники освежают свои потухшие желания. Обращение далось мне с большим трудом, и лишь короткое счастье смягчило мое состояние и вовремя вытащило меня из наивного безбожия. Это порочное чувство обмануло мои ожидания, я думал восстановить с его помощью свою былую энергию, всепоглощающую страсть к исследованиям, однако в реальности попал в лоно чувственной деградации и стал жалок к самому себе.
Я решил сформировать в себе новые качества, для этого пришлось, полностью прекратить стихийную активность в религии, сдерживать свой рассудок, переосмыслить свои убеждения и поменьше проявлять энтузиазма. Мне не хотелось быть ни мучеником, ни святым, тем более монахом или подвижником, я всего лишь желал соотнести свои чувства с верой. Потрясение от моего нового обращения в религию под воздействием религиозного учения стало постепенно проходить, оно позволило привести в систему все сверхъестественное и обобщило это в понятиях доступных уму.
Однако, я не собирался терпеть строгую и жесткую истину, в которой нет места непринужденности и эмоциональной струе. Я стремился управлять своим вдохновением и внести в него некий свободный порядок, не очень заметный, позволяющий подниматься и летать эмоциям, которые будут связанны ниткой за ножку, а когда, казалось бы, они вот-вот освободятся, сметливость их поймает и выразит. К такой сбалансированности я не смог дойти. Я видел существующую неувязку, но не мог правильно определить ее причину, не говоря уже о средствах для ее устранения. По существу, это были трудности, с которыми встречается ученик, постигающий истину методом проб и ошибок. Мне страстно хотелось покончить с одним делом, которое не отвергалось высшими сферами предопределяющих жизнь и так явно всплывало перед моими глазами. Оно состояло в том, чтобы к вере приобщали с любовью, а если меня закабаляют без моего желания, то пусть дадут, по крайней мере, покой и, радуясь достигнутому доведут до конца благородные устремления души.
Наиболее важные чувства я не мог не выразить мыслями, тогда бы при написании этой книги ее ткань не заполнялась соответствующими живыми словами. Внезапно поднятая волна откровений о прошлом, вместо того, чтобы накрыть и утопить меня, как раньше, теперь схлынула. Хотелось бежать за ней, подстеречь ее возвращение. В деле исследования, каких угодно сокровенных мест своей души, начиная с детских лет, я искал повод признать в любом задевшем меня благоприятном ощущении содействие внешнего мира. И это неплохо получалось. Келья врачевала, побуждая меня к разговорам с самим собою. Четыре стены, которые в дневное время изолировали меня от школы, как стемнеет, приобретали легкость и в некотором роде прозрачность, как будто вещество становилось тоньше, и отступали вплоть до границы тишины, оставляя меня одиноким в центре холодного пространства. Все вокруг кроме меня переставало существовать. Келья, уничтожив свои пределы, была такой же необъятной, как мир, а мир был мертв.
Неописуема острота от удовольствия чувствовать себя уникальным от начала и до конца, и противостоять истине святой и абсолютной. Они переплетаются между собой, каждая из них сама по себе, правда. Тотчас во мне возникала мысль о первозданном хаосе и желание устроить в тишине тарарам. Отвлекаюсь от тишины, погружаюсь в эту бездонную воду, которая выталкивает меня, как море возвращает трупы…. Поток желтого света обновляет цепочку моих ощущений. Из-за неспособности вовремя остановиться и возможности погибнуть, возвращаюсь по требованию дружелюбных голосов, нарушающих мое внутреннее уединение. Напрасно. Изобретательность, желания и порочное фрондерство, в которых по обыкновению я терпел поражение, теперь были разочарованы. Абстрагируясь от мирских представлений, рефлексия находила лишь пустую душу: сухую, увядшую, плоскую.
Мне было стыдно своей чистоты, но новые знания научили меня правильно оценивать цель жизни. Как это могло быть, что ничто меня не волновало? Но это так и было. Душа, как иссушенная земля, а за ней неусыпное острейшее внимание, слежка за самым незначительным отклонением. Но как говорится, невыгодное это дело – охранять виноградник с убранным виноградом. Отвращение к покою принуждало меня искать бурные эмоции в молитвах, не зная их, я сочинял свои, заказывал кому-нибудь или брал из имеющегося репертуара месс. Если бы я имел собственные средства выражения, они потоком изливались бы с моих губ без всяких просьб или брани.
Читаю молитвы из книжки, соблюдая правила. Они восторженные, успокаивающие, вызывающие тошноту, несут с собой столько стонов и вздохов, но эти жалобы не возбуждают чьих-либо чувств. Но в книге есть один ужасный пассаж, он единственный, это молитва на смерть, она столь же невероятная, как и жестокая, в ней просят милосердия, связывая антифоны[Антифон: в католическом богослужении рефрен, исполняющийся до и после псалма или евангельских песней] с ходом агонии смерти, читали ее медленно. Тело по ходу молитвы помаленьку умирало, и человек присутствовал при угасании чувств, как при затухании фейерверка. Едва погаснут все огни, как можно быстрее возвращаются к молитве, завершающей переход в мир иной. Жуткая молитва не переставала поражать меня до дрожи от ужаса, любовь примешали к третьему врагу души[Три врага души (Tres enemigos del alma) – Католической учение считает, что в Библии описаны три врага души человека: первый — Мир, с его соблазнами, погрязший в грехах; второй — Тело, естественный грех, исходящий от Адама; третий — Дьявол, ненавидящий Бога и людей.] — дьяволу, ибо сама молитва обязывает рассматривать его тесно связанным со смертью, и только силой можно было освободиться от него и его посулов.
Предупреждаю, что стремление спасти любовь силой — является ошибочной целью, ведь порок духа пока еще неясный, просит у религии неподдающееся описанию чувственное снисхождение. Я быстро избавился от непосредственных чар церкви. Игра света и музыки, ладан и другие прелести алтаря не произвели на меня должного впечатления, тогда как многие впадают в восторг и, наслаждаясь видом или запахом, возносятся наверх блаженства. В церковных обрядах я участвовал с неохотой, и основное внимание уделял языку литургии, потому что уже получил удивительную прививку от подозрительных эмоций, беспокойных и мало привлекательных.
При склонности к осмыслению много пищи для ума может предоставить природа. Как-то в солнечный день, вид гор и шум деревьев Эррерии, так очаровали меня, что не дали завершить начатые дела. Скажите, эмоции? Да, я не страдал лицемерием и в конечном итоге восстановил умерщвленные церковью чувства, позже мне даже пришлось столкнуться с недостатком религиозного пыла. С детства я был заторможенным, типичным домашним ребенком, где-то даже диковатый, и если мне требовалось проявить энергичность, то я как бы раздваивался, и вторая моя сущность проявляла себя иногда с большей энергией. Вот почему природа в тот день так на меня подействовала, ведь однажды уже вкусив ее красоту, я по-прежнему не переставал поражаться ее чудесной изобретательностью, даже за тот малый промежуток времени, что я в ней присутствую.
А вот религия меня сковывала, толкала против моральных устоев моей личности, угрожая своими извивающимися жалами, спрятанными за стальным шнурком стихаря. Каким безжалостным резцом она ваяла меня! Наделяла ограничениями с каждым разом все более разнообразными и чувствительными. Религия противопоставляла меня не только к другим людям, но и к Вселенной. Я уже не был ее созданием, она стала для меня невыносимой тюрьмой, хотелось разрушить ее, вырваться наружу. Религиозная литература и примеры, приводимые монахами, изобиловали поразительными случаями единения с Богом. Этот полет на крыльях любви дарованный по забывчивости с затаенной мыслю: «Откажется ли он от меня, если его предупредили о беспорядке в моем сердце начинающего понимать религиозный символ?». В то время я тысячу и один раз пытался сделать тот прыжок, о котором уже говорил. Я был очень легкомысленным первооткрывателем мистических дорог, поэтому в этом деле я не продвинулся ни на шаг, и не возвысился над землей ни на один дюйм. Стремление реализовать себя через религию оплачивалось таким неприятным закабалением, какого я не видел ни в настоящем, ни в дальнейшем. Из этих неудач я выходил с заостренным осознанием, более умелым и осторожным, с более ненасытными чувствами.
Находясь после занятий в келье, остаток часов проводил неподвижно перед книгами, процеживая капля за каплей огромную запруду времени. Ровно в восемь утра, звон монастырских часов поднимал школу из ее могилы. Хлопанье дверей, голоса, шаги людей. Внимание рассредоточивается. Скольким тревожным ожиданиям не суждено будет сбыться под этот колокольный звон!
Монахи, делая из меня доброго христианина, так и не смогли заразить третей добродетелью — милосердием. На мой взгляд, это наиболее сердечное, самое красивое чувство из всех. Я отношу к милосердию некоторые проявления редкого смирения. Умиление, излияния от обращения к вере, были не более чем страхом зверька напуганного очевидностью своего невезения. Мною овладело чувство опасности, пугливый эгоизм дал волю своей дрожи. Укротив первое волнение, я остался один на один с жестокой правдой, запечатлевшейся в моем сознании — мое внутреннее вдохновение сменилось дисциплиной полученной извне. Не будет больше взрывного подъема страстей, а лишь жизнь, упакованная в тесные правила без моего добровольного согласия.
Религиозная действительность угнетала меня своей властью и чуждым мне всеобщим согласием о жизненных истинах, взятых из личных наблюдений. Ведь это будет истина, если я выброшусь из окна, то разобьюсь. Или утону, если брошусь в пруд. Однако подобное поведение будет не истиной, а ничем не оправданной глупостью. Я покорился, ломая свою волю наперекор своему желанию. Разум — подчинен, страсти — уничтожались, едва зародившись, исполнительность — это всего лишь мои уловки, к которым я прибегал из человеческого благоразумия. Принять веру из умиления, на мой взгляд, было бы моральным падением. Отсюда мое отвращение к чрезмерной сентиментальности и поэтическим отступлениям в некоторых назидательных книгах. В трапезной, куда я приходил из тишины своей кельи, иногда выпадала моя очередь читать с кафедры религиозные тексты. Чаще это была повесть «Фабиола»[«Фабиола или Церковь в катакомбах» — автор Уайзмэн Николас Патрик (Nicholas Patrick Wiseman) (1802-1865) классический роман из жизни христианских мучеников.], а в ее отсутствие «Гений Христианства»[Гений Христианства (Le Génie du Christianisme) — религиозный трактат Франсуа Рене де Шатобриана в который автор включил и две ранее написанные повести «Рене» и «Атала»], но без повести «Рене», и в худшем случае «Руины моего монастыря»[«Руины моего монастыря» (Las Ruinas de mi convento) — роман каталонского историка и писателя Фернандо Патксота (1812- 1859).].
Ах, эти толерантные римляне Уайземена! Вновь встают в памяти его колоритные фигуры. А Паксот, его слезливость вызывала у меня отвращение и очень утомляла. Другое дело, бесконечный праздник от очарования Шатобрианом. Колокола…, пилигрим который возвращается в свою деревню и находит своего отца помолодевшим…, изящество руин.… Вот о чем надо рассказывать! Милое решение — просить католического одухотворения у дубов. Шатобриан оставался вдали от источника веры и его жгучего, как у восточного ветра выжигающего хлеба, дыхания.
Раскол завершился, я стал вести двойную жизнь, пользуясь фиктивной неприкосновен-ностью, искоренив все постыдное. В это время мое падение достигло такого уровня, ниже которого нельзя было себе представить. Мне не хватало мужества взглянуть прямо на свои скрытые планы, которые накладываются и перемешиваются и, завершив одно, не знаешь, это ложное или истинное. Очень печально жить в ожидании великого поста, готовится, не зная к чему, и на всякий случай, пребывая в робости. Тем не менее, по всем приметам неудержимо приближается весна и пора моей юности со всей ее обыкновенной беспечностью.
Вечерний сумрак в базилике скрывает пышность алтаря и отсутствие благочестия в душе, оглушительные призывы хора, отражаясь от сводов, покоряют нас своей силой. На барабане купола вырисовывается чистая синева высоких витражей. На что она намекает? Не лучше ли отказаться от тех, кто делают нашу жизнь, как им заблагорассудится и навсегда быть в покое…?
Выйдя из базилики, более спешно, чем всегда, я увидел, что ночь поглотила синеву витражей, ее уже не было.
XII
Суровым голосом падре Мигелес произнес: — «Нет необходимости, чтобы север вам объявил: «Варвары находятся в Испании!»[«Варвары находятся в Испании» - в III-IV веках вандалы и аланы захватили у Рима Пиренейский полуостров и образовали алано-вандальское королевство. «Север объявит»… то есть варвары объявят.]
Я обязан Эскориалу и его школе тем, что подготовили меня к правильному пониманию высказанной падре пропитанной испанизмом[Испанизм – в данном случае – любовь ко всему испанскому, истинно испанский характер.] максимы, воспринять ее дух и содержание и, полностью осознать смысл — упадок ранее существовавшей легендарной страны. Эгоистическая робость и некоторые опасения мешали продвигаться вперед моим чувствам испанизма. Сам того не понимая я увяз в одной странной бестолковщине. С одной стороны, национальное чувство прельщало многими соблазнами: хотелось подняться на дыбы и задрать нос от тщеславия, дать волю своей гордости и наслаждаться этим, наполнить пафосом, гиперболой и другими вещами, в коих можно проявить необузданность — ветер патриотизма. Зазнавшись, хотя бы даже один раз, душа бросалась в такой разгул, как если бы ей выдали полный карт-бланш на основании благородных намерений. Но с другой стороны, я предпочитал спокойно утолять свои чувства, а не искать новых страданий. Распустившись, национальное чувство атакует, опираясь на исторические основы Испании, а потерпев неудачу, отводит свои силы для нового наступления.
Я поздно начал становится испанцем. В юности меня взращивали в неком благодатном испанизме, в котором не придавали значения материальной стороне жизни. На карте я видел лишь черты какой-то Испании, она была похожа на человека без лица, на границы не обращал внимания и даже не подозревал об их существовании. Школьные рассказы под вывеской Всеобщей истории, не выходили за рамки книжки с картинками. Возможно, меня сбили с толку большие страсти, бушевавшие в нашем алкаланском[Автор был родом из Алкала, городок расположенный рядом с Эскориалом.] доме.
Едва закатился девятнадцатый век, как останки литературной традиции алкаланцев вновь ожили в моем городке. Пропитанные гуманизмом престарелые юристы; какой-то одряхлевший идальго без двух крошек разума, декламирующий Горация; богатые крестьяне, которые еще в юности начинали изучать «учебные занятия для взрослых»; книжники толедской эпископальной курии, обитающие в переполненных кельях монастыря Святого Августина, которые еще немного и дотянутся до самого Флореса[Энрике Флорес де Сетиен (Enrique Flórez de Setién y Huidobro) (1702 –1773) испанский монах-августинец, известный историк, переводчик, географ, хронологист, библиограф и т.п.]; и один каноник, последний преподаватель Университета, умерший обожравшись арбуза…, все они ревностно поддерживали в Алкала культ предков.
Эти люди жили не в своем времени. Мир для них перестал вращаться с того дня, как закрылся Университет Сизнероса[Университет в Алкала названный в честь его открывателя кардинала Сизнероса – Франциско Хименес де Сизнерос (Francisco Jiménez de Cisneros) (1436 –1517), кардинал, архиепископ Толедо, примас Испании и третий генеральный инквизитор Кастилии, францисканец.], а пресса перестала разрешаться от бремени, отчего алкаланские печатные станки заплесневели. Они впитали свои скудные знания из своих древних и современных книг, которые затем были изодраны в клочья, когда их разбазаренные библиотеки стали аптеками. В лучшие времена они отмечали юбилеи, отправления и возвращения своих героев, их расквартирование и похороны. Это был упрямый и напыщенный народ, ревностно охраняющий колыбель Сервантеса, оберегая его от жителей Ла Манчи алчно жаждущих похитить ее[Намек на извечный спор между Алкала и Ла Манча о месте рождения Сервантеса. Как доказательство, что писатель родился в Алкала, здесь хранилась его колыбель.].
Сизнероса здесь всегда называли «завоевателем Орана»; Сервантеса — «принц находчивых», «однорукий из Лепанто», «пленник из Алжира», «однорукий здоровяк» и прочими не употребляемыми фигурами речи. Они собирались, расходились и вновь собирались, чтобы произносить речи, похвальные слова в стихах, бурлески, дифирамбы, толковать «бессмертную книгу»[Дон Кихот Ламанческий], воздавать хвалу графу де Лемосу и ядовито поносить нечестивца Авельанеду[Алонсо Фернандес де Авельянеда (Alonso Fernández de Avellaneda) — псевдоним автора мнимого «продолжения» романа М.де Сервантеса «Дон Кихот», изданного в Таррагоне в 1614 году под названием «Вторая часть хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского» Личность автора, скрывавшегося под этим псевдонимом, не установлена]. После Иуды никого так ненавидели, как так называемого Авельанеду. Мне пришлось дойти до крайней точки здравомыслия, чтобы понять, что этот мистический персонаж ничего плохого мне не сделал, я не обижен на него и никому не собираюсь мстить за его какое-то оскорбление.
Алкаланские патриоты возмущали покой горожан множеством вечеринок, мемориальными досками, иллюминацией, катафалками, однако их патриотизм не выходил за рамки своего города. Нас уверяли в исключительном величии Алкалы, но не всей Испании. Вполне вероятно, что земля, воздух и вода города обладают свойством, предрасполагающим к славе и неизвестно, кто кому больше дает — дух-покровитель городу, если благосклонная судьба указывает ему видеть в нем источник света или город духу-покровителю, смешивая в нем разные компоненты ничего общего не имеющие между собой. Это мнение является наиболее вероятным.
Добрый алкаланец верит, что, по меньшей мере, он является одним из героев «Дон Кихота» и даже генератором идей Сервантеса. Уже один только факт рождения в Алкала являлся подтверждением этого таланта и если алкаланец появлялся в другом городке, то там ему верили во всем, как верят любому знаменитому мужчине, за исключением случая, если на них не падал лучик алкаланского солнца. Сам Бог, творящий чудеса повсюду, сотворил в Алкала необыкновенные дивные вещи. В общем, это избранный народ, соавтор замыслов Провидения. Прошлое было понятным, если там оказывалось лицо с произношением алкаланца, а если нет то, все терялось во мраке. На нас тоже падала часть этой доли, как вода в канале, распределяемая среди общины соседей. Состояние оцепенения, панегирические интонации, радостное настроение и в качестве упражнения, дополняющего имеющиеся стимулы — привычка хвалить себя за достоинства своего ближнего, и смотреть на свою одежду, как на нечто не подающееся описанию, смущаясь за чужую работу. Личное вдохновение или бесплатные дары уже предоставлены Богом напрямую, через своего представителя в своем царстве Толедо, сеньора архиепископа.
Угадать, насколько человек испанец, можно через два признака: первый — если у него есть стремление расширять вплоть до пределов Полуострова площадь насаждений лаврового дерева и второй — если он украдкой наблюдает, как кто-то восхищается его бессмысленным прямодушием. Я содрогнулся от неприятных чувств, когда открыл противоречие в том, что служил против враждебных сил наделенных моральной сущностью противоположной той, которой руководствовались монахи. Мои национальные чувства испанца, с трудом получили то, что потеряли от свободы и удерживаемые своими корнями, угнетенные, высказывали скрытые угрозы, как грозовое облако, перед тем как разразится градом.
Мне попросту не хватало объема тех вещей, в которых я разбирался, не помогали здесь и природные задатки. Вскоре я увидел себя источенным досадой, опаленным неприязнью, ставшего жертвой злопамятного унижения, как тот, что приходит в этот мир калекой или неизлечимо больным, или лишенный справедливости некоего свойства общего для большого количества людей. В пищу, которой будет насыщаться мое убеждение испанца, должны были подбросить определенную закваску, чтобы она прокисла. У нас — испанцев, была схожая с Авелем[Авель, в Библии второй сын Адама и Евы, «пастырь овец», убитый из зависти старшим братом Каином - земледельцем, когда Бог предпочел дары Авеля. В переносном смысле - невинная жертва жестокости.] судьба. Наша сила — лучшее понимание извечных намерений, породила у союза варваров злой дух. Испанский полубог был низвергнут, его великодушие принадлежит другой эпохе. Раскрыть, таким образом, нашу позицию в мире — это значить совершить преступление против Испании, это скандал в Истории, это тоже, что быть отравленным сильным ядом, видя провал на корню своих врожденных надежд. К кому мы питали отвращение больше всего? К завидующим нам иностранцам, к испанцам-отступникам, а может к варварам падре Мигелеса, не помню.
Монахи могли покорить нас двумя способами: юридическим и историческим, и таким образом повысить силу нашего характера, но не сформировать интеллект. Изучение права без заинтересованности самих учеников, через голый профессионализм учителей, с самого начала нанесет этому делу вред. Но если все будет как надо, то изучение права послужит не только для достижения формальной ловкости ума и его оттачивания, но больше для того, чтобы сделать понятие о законе основой потребностью нашей нравственной жизни, при условии, что этому будет предшествовать серьезное разъяснение идеи справедливости. Предмет истории не только бы улучшил нашу способность рассуждать, используя нас, как критиков исследования ценности свидетельств, но и открыл бы для нас обсуждаемые перспективы и поднял на ту высоту возражений, где легкомыслие гибнет. Монахи, которые признавали Естественное право, не подозревали о естественном прошлом человеческих мотивов. Мы шли закоулками законоведов к абстрактным намерениям. Изучение права требовало строгого применения определенных терминов, например, «история», «прозелитизм»[Прозелитизм (гр. – пришелец) — действия по обращению человека из одной веры в другую. Это смена вероисповедания. Прозелит — человек, принявший новую веру и отказавшийся от той, в которой он пребывал] и т.д. Трудно представить, чтобы юноша приспособился разучивать хором главы «Свода королевских законов»[«Свод королевских законов» (Fuero de las Leyes или Fuero Real) — в 1255 году король Кастилии Альфонсо Х Мудрый собрал и унифицировал разрозненные законы испанских городов и провинций в единый свод, положив начало современному испанскому праву.], если рвение учителя сталкивается с нежеланием ученика. Кто же здесь будет прав?
Узрев, что мы не желаем заниматься его предметом, падре Рафаэль однажды нам крикнул: «Завтра приму зачет со всеми точками и запятыми». Придя утром на урок, кое-кто восприняв слова падре буквально, стали читать со всей серьезностью: «Урок девятый, «точка». Разорвано на тысячу кусочков национальное единство, «запятая», также нарушено правовое единство, «точка». Падре стал возмущаться, а мы зашумели. Чья сторона оказалась в смешном положении?
Вновь наблюдается сейчас, как интеллигенция покоробленная своим плохим положением с удовольствием входит в привычку познавать живые существа, камни, растения, и желает иметь о них совершенные знания, используя лишь метод наблюдения, не проявляя при этом никакой активности. Ведь можно сделать по-другому! Рассечь куст, взвесить камень, отметить его форму, цвет, ощутить очертания, воспринять чувствами; то есть вынуть мир из своего спорного представления, из круговорота красноречия, где мы увидим его вращающимся и воссоздать его в своем естественном состоянии и объеме. Сразу чувствуется разница! Это тоже, что дышать влажным деревенским воздухом после заточения в затхлой и сухой атмосфере.
Потребность в подобной активности подвигла меня случайно для потехи заполнить сцену Эскориала лицами, взятыми из книг по истории. Не бахвалясь, решил для пробы использовать такую часть моего тогдашнего культурного уровня, как проницательность критика. В первый год мне предложили трудную тему: «Были ли собрания Толедо реальными Кортесами[Парламент Испании]?» На поверку оказалось, что здесь существует множество противоречивых мнений, ни одно из которых не является определяющим, поэтому проблема осталась не решенной. На следующий год я вновь столкнулся с этим вопросом, однако прошедшее время не дало на него ответ. С того времени я больше не сталкивался ни с этим учителем, ни с вопросом и никто его мне больше не предлагал. Однажды в счастливый для меня день, когда я находился в грязном и дурно пахнущем помещении Университета Мадрида, готовясь срезать с академического древа драгоценную докторскую кисть, один болезненного вида священник, забаррикадировавшись столом, расспрашивал меня о Симоне Волхве[Симон Волхв (Simón Mago) — современник апостолов, по преданию, основатель существовавшей до III века гностической секты симониан. Считается родоначальником гностицизма и всех ересей в церкви.], а затем выпалил мне эту неразрешимую загадку: «Были ли собрания Толедо настоящими Кортесами?» До сих пор я этого не знаю.
Больше чем из-за недостаточной критики, впрочем, едва замечаемой, история задевала меня своей сухостью к бесчеловечности. История включает в себя короткое описание десятков впечатляющих действующих лиц, но обличье этих героев было не человеческим. Они явились в этот мир с поручением сыграть заранее написанную для них роль, выученную на память и осыпать нас судьбоносными указами. Мы не изучали то, что они сделали; более того казалось они поторопились выполнить написанное. Изучая тему о Католических королях, экзамен на отлично могли сдать не мы – студенты, а сами Католические короли, которые, не забывая о точках и запятых (о конкисте Гранады, открытии Америки, изгнании евреев, в конечном итоге, ничего не забывая) прекрасно ответили на все касающиеся их вопросы Основной программы.
История в течение длительного времени приходила в упадок, теряла сущность, насыщенность, глубокие разногласия разделяли поколения людей. Безусловно, это была месть Бога. К счастью я предчувствовал далекий шум потока эмоций обращенных к прошлому и в наивной форме продумывал свои измышления, населяя землю, насколько видели мои глаза, людьми из оскудевших веков. Кто-то из них сказал бы мне: «Мы были здесь всегда», но если бы я был в состоянии это понять. Меня поражает объем усилий необходимых для поддержания идеи о том, что простые делатели истории не являются призрачными существами или школьными понятиями. Это тоже люди, но одетые сегодня в книжный саван, они тяготели к этой же земле, распространились в этой же природе. Я очень поддерживаю эту идею, но очень жаль, что не имею последователей. Охваченный чувствами, я представлял непрерывное чередование внешнего вида этих людей, которые тотчас возникали на местности, с неизменными чертами, живые существа, данники этого же солнца. На основе восстановленного человеческого материала, я мог бы назвать исторический цвет, который мне соответствует.
За окнами один и тот же постоянный фон: равнина, горы, свет. В моих ощущениях и желаниях зарождается ручеек, который проходя через класс, превращается в водопад мыслей и представлений. Пораженный условиями жизни Эскориала с его баталиями, шествиями, охотой, я и историю представлял себе, как нечто движущееся, сверкающее, звучащее. Так что оттуда я вышел вновь родившимся. У моих героев не было страсти, я попросту не догадывался их наделять ею, узнав, что кто-то на них смотрит, они напускали на себя показное тщеславие, а короли восседали верхом в длинной до пят мантии со шпагой в кулаке. Меня смущала неспособность к настоящему вымыслу, поэтому приходилось надевать на них шлем-морион[Морион (исп. morrión) — шлем с высоким гребнем и сильно загнутыми спереди и сзади полями. Появился предположительно в Испании в начале XVI века] Сида[Сид Кампеадор (исп. El Cid Campeador), настоящее имя Родриго Диас де Вивар; (1041—1099) — кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании, герой испанских народных преданий, поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии Корнеля.] или берет карлиста[Карли́сты (исп. carlistas) или апостолики — политическая партия в Испании, в XIX веке принявшая активное участие в трёх гражданских войнах (называемых карлистскими). Карлизм был активен на протяжении полутора веков, с 1830-х до 1970-х годов. Карлисты носили красные береты], в результате из множества людей получался один, как если бы один голос воспроизводил зажигательную речь, которая была написана разными текстами.
История, приготовленная по домашнему рецепту, по-отечески вскормила мое испанское сознание. Мы получали краткое изложение знаний, обобщенное в назидательных выводах, которые монахи, манипулируя, извлекали из хранилища событий, на что мы не обращали и никогда, ни будем обращать внимания, ведь от нас не требовалось их знать. Полагаю, что подрезать крылья интеллектуальным устремлениям предполагалось в нашей учебе. Не из-за принуждения к религиозной вере или режима, который делил чтение на дозволенное и запрещенное, а потому что смиренное отношение ученика в школе, как я вижу сегодня, играло в призвании и способностях ума, не меньшую роль, чем качество материалов для изучения. Об этих вещах нигде не говорили, монахи были бы напуганы, обнаружив, сущность системы, это действительно так.
Мы молодые люди смотрели на серьезные знания и глубокое понимание, как на неисследованный тропический лес, на задачу для гениев, предназначенную для касты, энергия которой освещает философов, писателей, преподавателей, и прежде всего преподавателей. Мы не призирали мудрость, но липкий страх пригвождал нас на краю ее сумрачной необъятности, и никто даже во сне не думал бросаться туда вовнутрь. Это было естественное почтение без привкуса утраты чего-то. Как бедняки в добром согласии относятся к недоступности пышной жизни с восхищением глупцов и вызовом, в котором гордость берет вверх, восклицают: «Это не для нас!» — так и мы ученики опирались на очевидность нашей врожденной неполноценности к восприятию культуры. Монахи заражали нас своей невзыскательностью, склоняли смиряться перед высшими силами с наивным благоговением деревенских жителей, ожидающих от них новостей. Применение образования не выходило за пределы их бытия, для более образованных было второстепенным занятием в жизни.
В начале переходного возраста мальчики из леонских или горных деревень переставали быть послушниками. Они выделялись пятнистыми угловатыми лицами в изумленных глазах, которых застыла деревенская наивность. Все целомудренные и с желанием быть упорным в самоотречении, потому что они приняли постриг. Другими словами имели все необходимые качества для молодого священника. Их могли уже направить проповедовать Евангелие язычникам или пофилософствовать с необразованными испанцами, запертыми в Университете. Закончить успешно школу было труднее, чем проповедовать в Индии. Здесь не помогало ни благочестивое послушание, ни мученическое прилежание, даже то, что ты испанец им ничего не гарантировало.
Какие перспективы открывала для них семинария и деревня? Какое значение в их жизни имело любопытство, если оно не вспыхнуло от жара общения с хорошим учителем? А окружение? А стимулы? Не обладая ими, было бы чудом, если учение поможет избавиться от трудностей ожидающих нас в июне. Но, к сожалению, нас побуждали к высокой культуре понимания, так же, как к восхождению на луну. К огромному сожалению, неизменно на уроках монахи по своей доброй воле, а может из любви или, желая угодить нам, конспектировали книги и диктовали краткое содержание текста, таким образом, нам приходилось меньше читать и мы берегли свое пищеварение! К счастью, очень неполные по содержанию университетские книги все еще сохраняли теоретический справочный аппарат, словарь, намеки на реалии жизни, ужатые до краткого описания. Монахи добросовестно работали прямо противоположно своей основной задаче: восхвалять трудности искусства, не препятствовать чьим-либо стараниям, побуждать, расширять задачи в соответствии способностям ученика. Для других целей мы были бесполезны.
Проявление любопытства считалось нелепостью, нас никогда не отпускали одних среди коллекции книг и следили за нашим поведением в этом месте: вдруг мы изорвем их или украдем (т.е. проявим преждевременную библиоманию), или того хуже начнем читать. В трех местах Эскориала я мог бы попытаться сделать это: в Королевской библиотеке, или как ее называют хранилище драгоценных рукописей и редких книг; в библиотеке монахов, укомплектованной книгами по богословию и каноническому праву, это был бастион против манихеев[Манихеи – последователи манихейства. Манихейство или манихеизм — религиозное учение, возникшее в III веке в государстве Сасанидов (на территории современного Ирака).]; и в читальном зале школы. Основным украшением зала был стол покрытый клеенкой, на котором можно было видеть давно устаревшие номера L’Univers (Вселенная), La Croix (Крест) y La Época (Эпоха). Главная библиотека для нас была закрыта, туда во все времена имели доступ лишь иностранные ученые, с нас хватило бы и одного того, чтобы нам показали Золотой Мунискрипт (el Códice Áureo)[Золотая Рукопись (El Códice Áureo) — Евангелие, созданное между 1033 и 1046 годами германскими иллюстраторами книг по заказу Генриха III. В 1566 году была подарена испанским королем Филлипом II библиотеке монастыря Эскориала.] и назвали его продажную цену, хотя можно было сильно сомневаться в ее точности. То же самое с библиотекой монастыря, заполненной церковной литературой, запрещенными книгами и мудреными сочинениями по казуистической морали под грифом «не подходит для чтения», в том числе книга похотливого иезуита из Кордовы[Имеется в виду Томас Санчес де Авила (Tomás Sánchez de Ávila) (1550 - 1610) испанский теолог, преподаватель иезуитских школ в Кордове и Гранаде, один из главных католических авторов по вопросам богословской морали. Его основным трудом является книга «Из священного таинства брака» (De sancto matrimonii sacramento).], упоминая которую монахи приговаривали: «Если хочешь знать больше дьявола то почитай «О браке» Санчеса. Но были книги вызывающие человеческий интерес, по мнению самих монахов их можно было читать, не подвергая риску свое спасение, они в достатке имелись в нашем читальном зале и служили приманкой, для чего одну из них оставляли на всякий случай на клеенке стола.
Питая отвращение к принудительному нахождению в компании, некоторые ученики, в тоскливом состоянии, предпочитали постоянно сидеть одни в келье. По воскресеньям школа казалась безлюдной, все торопились куда-нибудь скрыться, даже обычно шумная бильярдная и гимнастический зал были пустыми. В это время нужно было искать незаметный уголок, а не найдя его, ходить из одного места в другое, сотни раз открывать одни и те же двери, в том числе читального зала, в поиске новостей и нигде никого не встретить. Может нас могло бы успокоить общество книги? Если она будет в ваших руках, то это будет та испытанная большая сила, которая заставит вас достойно заполнить свободное время.
История продемонстрировала, в чем состоит сущность испанца и одновременно вместе с этим создала ортодоксальный испанизм. Удобные короткие пути в обход линии рассуждения, вели нас от пренебрежения к внешним признакам вещей в сферу морали, в которой они отражаются, подменяя защиту чувств достижением истины. Формы школьного испанизма, угождали врожденному хвастовству, зуду тщеславия и другим порокам, которые воспитание выкорчевывает или подавляет, побуждали принять постриг в это воинство, и по внешним признакам это происходило без принуждения. Мы не замедлили обратить внимание на тяжесть предназначения быть испанцем, как на нечто неопределенное, страшное, как у христианина.
Ортодоксальный испанизм исподтишка навязывал нам второе откровение, связанное с откровением религиозным. О христианских таинствах мы знаем, что судить их является неправомерным, однако, когда речь идет об исторических событиях то же самое мы называем критикой и безрассудно оцениваем их, опираясь на поддержку, которую преднамеренно оказывают предшествующему толкованию. Частью содержания моего национального качества являлось обязательное согласие с тем, чтобы мое сознание испанца считало своим высоким долгом необходимость твердо придерживаться исторических представлений, как основы составляющих его моральных ценностей. В этом заключается схожесть между постулатом испанизма и предположений христианского догмата, и то, и другое освещенное просвещением встраивается в поведение человека. Догма не маскирует своего требования полной отмены критики; и напротив, наша вера испанцев отвергает доказуемое и результат опыта, а затем поднимает их до уровня убеждения, почти религиозного, во имя совершенства того, что они только что разоблачали перед нами. Духовное совершенство, прежде всего.
То, что одушевляет физическую сущность Испании в мой характер приходит с кровью и связывает меня происхождением со столькими поколениями, что это вовсе ни мало, чтобы называться испанцем. Суть в том, что надо быть причастным к традиции, стремится к ее воспроизведению и взять на себя обязанности, которые я дал обет выполнить. Подтверждением стойкости испанского качества является ваша принадлежность к формам, которые исторически стали частью бытия Испании. Эти формы не символы и не памятные трофеи, которые строго говоря, можно заменить другими; они обладают действующей силой, священны и одаряют тех, кто их принял особенной милостью государства.
Испания - католическая монархия шестнадцатого века. Это дело, предписанное с давних времен, нашло тогда могучие крылья способные его вознести, оно предназначалось для испанского героя и стало его единственным девизом. Выигрывать сражения и завоевать небо, надеть на мир ярмо и порадовать Бога, дать выход всем страстям, с божественными намерениями. Вот так выковываются цельные люди! Нас приводило в такой сильный восторг подражание этому внутреннему единству, что монахам уже не нужны были их хитроумные доводы, чтобы прививать нам свой испанизм. С веками мощь была растрачена.
Казалось бы, что общего есть у роя авантюристов и выводка учеников затворников? Однако нам достаточно было проникнуться омерзительными подвигами испанцев, как наши убеждения, и то кем мы хотим стать, высший долг, и порывы храбрых душ становились созвучны. Мы были едины в мыслях, но не в действиях, второе мы подменяли желанием славы и негласной уверенностью, что героизм является врожденным свойством испанца, хотя временами он спит, но вновь появляется в нужный момент. Не знаю, родился ли я с этим врожденным свойством нетленного испанского мужества, непреходящим и всегда актуальным, но мы чувствовали, так сказать, как оно горячо захлестывает нашу грудь. В этом и заключается самая большая загадка энтузиазма.
Убрать с дороги истории века и заставить нас верить мифам, не засушенных в качестве чучела образца национального, а как живой источник, полагаясь на их эффективность. Наш дух воспламеняется перед огромным алтарем, где все герои присутствуют в равной мере, дыша в едином ритме. Испанская слава достигла убедительной силы, невероятное значение, мы твердой грудью могли остановить вторжение и послать против Северной Америки корабли Лепанто[Битва при Лепанто 1571 года — морское сражение, произошедшее 7 октября 1571 г. греческого города Лепанто, между объединёнными силами Священной лиги, куда входили Испания, Венецианская республика и др. против флота Османской империи. Битва закончилась победой союзников и положила конец турецкому могуществу в Средиземноморском бассейне.]. Невозможно представить, что удары этих ветряных мельниц не оставили на нас шрамов. Вспоминаю чудесным образом сохранившийся в памяти такой уникальный тезис как этот: «Испанская пехота самая лучшая в мире»; повторяя его как молитву, не думая ни о чем другом, вскоре я в своем невежестве постиг суть испанизма, о котором писал выше.
Наше национальное единство является просто идеальным. Вера и национальная страсть настолько тесно переплетаются, желание владычества настолько явно сходится с распространением веры, что вполне возможно и желательно отказаться от них без оговорок о милосердии и гуманизме. В этом мире дело католической религии есть дело испанское, никто не послужил ей лучше, чем мы, никого она не возвеличила так, как нас. Доказать это легко, если Испания не будет сражаться за Церковь то она будет разрушена. Лютеране извне не смогли с ней справиться. Они смирились с духом зла и позволили загрязнить сердце вероучениями варваров, в результате чего их энергия погасла. Пустое дело жертвовать напрасно своей самобытностью, этим только утратишь небесные дары.
Испанский архетип, возвышенный монахами, имел целью заштопать обносившийся идеал внутреннего совершенства безгрешного христианина и во вторую очередь, восхвалять труд, чтобы подготовить некоторых юношей к мирской жизни. Переступая через монастырскую строгость, монахи выходили из созерцательного уединения и в духе времени, вливались в полезную деятельность. Этот обходной путь равнозначен повороту, который они совершают в нашем обучении, оно теперь включает в себя принцип — что тебе по силам, то и делай.
Монахи похоронили в мутных глубинах наших душ, обработанный камень — католическую веру, своею более острой стороной он указывал начало пути. Это острие являло собою символ страха перед загробной жизнью, который лежал в нравственной основе личности. Школа, создавая базу нравственной личности, тем не менее, не была питомником монахов, а благочестивые учителя не наставляли нас католической вере, чтобы сделать единоверцами, они работали с нами, чтобы создать достойный резерв, гарантию своей профессии, а попутно и нашей. Это было самое серьезное дело, которое они делали, впрочем, вместе с учением заканчивалось и легкомыслие. Они не развлекались, заражая нас самоотречением, и хотя они жили в коллективе, где все должны походить друг на друга, они могли заходить намного дальше и, набрасывая поверх себя рясу, предназначали себя небу. Они понимали, что однообразная жизнь в коллективе было внешним повиновением, довольно далеким от начального воодушевления, таинственно прикрытого непроницаемым лимбом от любопытства, таким образом, это был коллегиальный орган некоего молчания и определенного взгляда.
Нам предназначено было стать хорошими клиентами[Клиент (от лат. cliens, множ. clientes) — в Древнем Риме свободный гражданин, отдавшийся под покровительство патрона и находящийся от него в зависимости.] Церкви, однако как людям нам необходима была мораль, которая смягчала бы воздействие «меча и креста»[…воздействие «меча и креста» — воздействие католической церкви.], оберегая нас от неповиновения и страданий, не меньше чем от отклонений, и предложила Кесарю нашу силу рыцарей-христиан. Мы не обретали эту мораль на пути благочестия. Вера, которая отрывает верующего от земных дел — выступает против людей. Если она действительно болеет о жизненных убеждениях то, для нее ничего нет важнее вне ее вечного предназначения, в противном случае она останется в устрашающем одиночестве.
Истинная вера необщительна. Она не подходит для республики, так как не способствует укреплению ее власти и защите. Солдат-христианин, давший обет почестям победы, выглядящий таким странным и славным в своем вооружении, с радостью бросает щит и меч, чтобы предоставить свою шею палачу. Его восторг тем больше, чем, по мнению людей, значительней жертва. Никакая победа не сравниться с той, что человек совершает над самим собой и поэтому ему более важно одолеть врагов своей души, чем Империи. Простой христианин униженный и бедный, образец повиновения, не может быть гражданином. Милосердие противно Государству, высокомерному и угнетающему. Если добродетели утверждаются по политическим соображениям, то милосердие, как наисвободнейшее из них, в этих условиях не будет работать и попросту исчезнет.
Христианское сердце, войдя в помысел Бога, сильно уменьшает свои гражданские побуждения и любит ближнего, хотя служит под другими знаменами. Нищенствующий и отшельник, какое общество они могут создать? Какая организация будет считаться с ними? Любое служение является разрушительным, а созерцание ведет к нелюдимости и устраняет правителя от себя, как нечто вредное. Таким образом, нашим образованием важнейшие чувства возвышаются благодаря их собственным качествам до благородных оттенков, а затем растворяются в гражданской жизни без соответствующей закалки и используются без отказа от моральных принципов патриотизма, который перемещает задор нетерпеливых душ в политическую сферу, и содействует величию Бога, через человеческое правительство. Монахи, по доброй воле, принимали патриотизм, считая его необходимым для нашей связи с родной землей, и для всеобщего блага внедряли его в круг наших мотивов. Обычно они внушали его, намеренно направляя на вещи, которые на их взгляд, наиболее способствовали его росту, однако концепция Испании, из которой вытекает принцип патриотизма, подверглась предварительному очищению, в нее нельзя было включать вредные взгляды или скрывающие под именем родины идеи сомнительной репутации.
Наш внутренний мир напоминал стеклянный шар, покоящийся на кончике пики удерживаемой жонглером в произвольном положении и если скоморох повредит запястье, то шар разлетится на кусочки. Погасить искру свободы выбора было тем же, что погрузить нас в любую из расщелин окаймляющие ортодоксальную дорогу. Расщелины, соответствующие аду в религии, как бы открывали преисподнюю в метафизике. Мы используем порядок, отрывая его от божественного происхождения власти. Наш образ Испании едва ли имел физическую основу; в чувстве патриотизма животный инстинкт, непроизвольная привязанность и даже легкая тень, наводимая на потребность в нем, будет считаться сильной облачностью. Абстрагировать сущность Испании от ее исторических черт, чтобы даже условно рассматривать ее, как ассоциацию свободных людей было запрещено. Нам прописывали, как лекарство воюющую за веру родину, то есть Испания существует, поскольку она осуществляет католический проект. Все внушения о национальных чувствах использовались с божественной целью. Страшная узурпация.
Если хорошо присмотреться, то из нас хотят сделать неженок! Ведь получается, что настоящий испанец не должен ломать голову над чем-либо, ему достаточно быть чистокровным испанцем. Все уже придумано и установлены правила: управлять как Сизнерос, писать как Сервантес, а оказавшись перед миром в положении истца, лишенного силой принадлежащего тебе имущества, забраться в тихий уголок и молча проглотить свои терзания, ни к кому не обращаясь и молить о самых больших неприятностях для победивших врагов. Его долг подражать настоящему испанцу и сохранять все как есть в ожидании лучших времен или если удастся то Страшного суда, тем самым сбить с толку дьявольские власти и испанская миссия будет оправдана. Это правило для небольших тягот и непокорной воли было как пир во время чумы, поэтому чувство всеобщей несправедливости проникало в нас с горечью. Мы считали недопустимой нашу добродетельность, ведь не могли же мы отрицать крушение власти, а противоречие между достоинствами, которые мы достигли, и плата за них, возвращали нас в мир слез и насколько больше мы были убеждены в своих способностях и правах, тем больше мы расстраивались. В скором времени критика раздраженная громкими санкциями приняла другое мнение — испанское крушение, это выкидыш недееспособной расы. Неудачное определение, психологически не очень далекое от старых заблуждений. Готов заплатить, если кто-либо из самых умных толкователей оракулов объяснит мне это изречение:
- В Испании мало арийского, как это ужасно!
Спрашивали, согласуется ли испанская каста с цивилизацией и ответ, растянувшийся на много веков, был отрицательный: они плохой породы, не крепкого сложения, черепа это могут подтвердить, если их позволят измерить. Какое несчастье! Однако чары были раскрыты. Это было следствие превосходства добродетели и постоянной антипатии мира или из-за изъянов в породе, в чем нет персонально нашей вины, и было бы бесполезно восставать против судьбы. За время учебы в школе, когда убеждение в принадлежности порочному народу дало хилые ростки от старого ствола, корень моего испанизма не прогнил. Наши чувства протестовали против существующего положения и выражались в том, чтобы ухватиться за то, чем мы владели, почитать то, что никто не мог у нас отнять, упасть в оцепенении перед символами. После религии, мы ни о чем так не думали, как о литературе Золотого века[Золотой век в испанской литературе считается период с1492 года по 1659 год, период расцвета в Испании литературы и искусства.]. Большей ортодоксальности не найти. Искусство и язык нам достались ниоткуда, а может их поместил в наши души Бог, как он поместил в рай первого человека. Хорошо, что не могут у нас отнять эти сокровища, как это сделали с Америкой, а ведь не трудно было бы оставить ее нетронутой. Монахи побуждали нас стоять на своем.
— Вы все у меня здесь, все, все…! — сказал падре Мигелес, потянув себя за мочку уха.
Он намекал на галлицизмы.
Что касается внешнего вида солдат, то если в Эскориал входил какой-либо их вооруженный отряд, то это нас воодушевляло. Вот по дороге поднимаются два ряда всадников, они кажутся такими высокими в белых плюмажах и толстых металлических наплечниках, в руках у них сабли, их мощные кони идут ритмично. После похорон мы хотели затеять перестрелку с двумя североамериканскими учениками. Всадники эскортировали одну старую инфанту, которая чуть ранее своей смерти посетила нас, возможно, ей срочно понадобилось ходатайствовать о погребении. Банкет, который ей устроили в одной из столовых, где председательствует «Колбасник» Гойи[Гобелен «Колбасник» украшающий одну из столовых Эскориала, долгое время приписывали Франциско Хосе де Гойя (Francisco José de Goya) (1746 - 1828) о чем упоминает и автор, однако как установлено картон гобелена принадлежит другому испанскому художнику Франсиско Байеу (Francisco Bayeu) 1734—1795 гг.], непреднамеренно закончился плохим предзнаменованием. Трое непослушных учеников, когда накрывали, тайком проникли в столовую и утащили со столов много еды и вина. Они вышли из монастыря и далее через дворец прошли на хоры в базилике, где совершили ужасное богохульство невиданное ранее в жилище Короля Благоразумного*, спугнув молящихся братьев стали кружиться в вакхическом танце вокруг огромного аналоя, и опрокинув светильник, залили пол потоками масла и воды. Возможно, местные души умерших рассердились. Вот почему инфанта умерла так быстро, хотя бедняжка не была виновата в том святотатстве. На ее пышных похоронах особенно очаровательно выглядела воинская свита, показывая на кирасиров, мы говорили своим заморским товарищам:
- Эй! Ну, как вам это? С этими мы овладеем Нью-Йорком!
XIII
Оживают окрестности Эскориала, дымка над местностью рассеивается, как риторическое монастырское единодушие. Поля, оголенные зимой, еще не просыпаются. Внешний вид монастыря совершенный и одинокий дополняет окрестности. На вершине горы душа проникается терзаниями, но в сырой дубраве долины она успокаивается, а возвращаясь в монастырь, видит, как вас приводят в порядок, вносят ясность, вытаскивая из дикой путаницы, в коей она пребывала, и делят с вами дар своего богатого опыта.
Тот, кто одинок, если его тяготит одиночество или он предчувствует неудавшуюся жизнь, или не надеется достичь большего, может облегчить свое разочарование, оценивая все с тем образцом, который предлагает ему монастырь и по которому человек должен стремиться быть вечным, я бы сказал стать сверхчеловеком, и это делает его обезличенным. Он перестает сочувствовать, обличать и сокрушаться, формулирует истину без обиняков, не давая повода для иронии.
Хотя его вид и отдает желтизной, но он не меланхолик, потому что ему не о чем тосковать. Не уходя от прямого ответа, на вопрос о смерти или жизни без стеснения скажет, что предпочитает красивой восхитительной смерти жить вечно, умирая медленно. Он удаляет из сердца романтическое, как из безмятежности монастыря репутацию сентиментальности….
Оживают окрестности, вновь искрится и шумит лес Эррериа, сияют лучами вершины гор, а монастырь переживает весеннее волнение и его суровость смягчается.
Волнуемся и мы, охваченные этим таинством несовместимым с рамками дисциплины. Три дня, которые предваряют ежегодный день памяти Тайной вечери, мы должны хранить молчание и медитировать, освободиться от этого было невозможно. Занятия приостановлены, книги отложены, от учеников у нас лишь одно название, так они хотели восстановить в наших душах непорочность первых веков христианства, утаив катастрофы той эпохи, для того чтобы жертва только что воскрешенная в памяти предстала перед нашими глазами. В течение трех дней ни принуждения, ни работы, никаких очевидных обязанностей, кроме тщательного изучения нашей внутренней жизни, приближаясь к состоянию транса, который нам хотелось бы отложить до следующего круга неопределенной жизни. Тяжкая свобода! Каждый из нас наедине с собой, постоянно со своей личностью, сам себе свидетель и судья, единственный объект. Глубоко смотришь в себя, на то, что человек видел уже тысячу раз в любом виде и со всех сторон, с радостью или печалью, и никогда без любви, а теперь в условиях строго самоотречения, но ничего нового и никаких неожиданных открытий.
— Это все для того, говорили они, чтобы в четверг — день Тайной вечери вы не совершили великое преступление.
Один час в келье, несколько минут в часовне и мы группами по шесть человек в сопровождении монаха отправляемся в дубовую рощу или сад, чтобы под сенью деревьев излиться в неторопливой беседе. Со стороны мы походили на непоседливых овец, взирающих на зрителя с картины Риберы[Хосе или Хусепе де Рибера (José de Ribera) по прозвищу Спаньолетто (Lo Spagnoletto — «маленький испанец» (1591—1652) — испанский художник эпохи барокко, жил и работал в Италии.], что висела в Зале капитулов[Зал капитулов (La Sala capitular) – помещение, где собирается капитул (коллегия священников) или общее собрание монахов, обычно располагается в крыле или галерее монастыря.]. В этих прогулках наше общение с монахами проходило в новой манере. Традиционное отношение учителя к ученику перестало существовать. Теперь они относились к лентяям так же доброжелательно, как и к прилежным ученикам, а умный для них не превосходил глупого. Те, кто стенали от нас еще накануне, в классе уже не жаловались, а те, кто злились, восстановив свои педагогические компетенции, оказывали нам одинаковую с другими отзывчивость, внимательные к нашему совершенствованию, как христиан. А мы отвечали тем, что попадая на глаза монаху, надеваем на лицо маску непорочности, в разговоре с ним бьем на жалость, взвешиваем свои слова, притворяемся, что мы самые бойкие, самые послушные, самые что ни на есть дети. При моем известном безразличии, от которого уже поздно избавится, такое поведение мне стоило трудов.
В ходе рабочего дня, келья давала нам уединение, на час другой. Что побуждает нас переходить через ее порог, не определившись в своем призвании? Келья предоставляла нам скрытность, в ее полумраке, появление первой тени приносит радость. Чтение книг аскетического содержания не шло далее первых строк. Образы героев искажались и выпрыгивали со страниц. Внимание отвлекается заманчивой сценой: шумная роща, спокойный свет, таинственный мрак ложбины, где вода бурлит и пенится. Милость возрождающейся природы. Лучи солнца пронизывают дубраву, прозрачная вода обжигает горло, проточная вода переливается в стоячую воду. Повсюду цветущий златоцвет, мы обрываем его нежные стебли, хлеща по ним. Приятное настроение, день радующий, совпадающий со временем и желанием, чтобы насладиться им, надо жить в лесу, раздетым, пронизанным солнцем и подвергнутся коварной таинственности, чему желают подыграть наша беспечность, густые заросли и громкое журчание ручейков. Осталось лишь сбежать. Закрыть глаза на самих себя и на мир, протянуть руку к кресту, и не исследовать тайну, не признавать ее; а так как склонность к эротике была неотделима от объекта, на который она направлена, то надо обдумать сомнительные подношения, сладострастные покаяния, ведь кипучее чувственное усмирение не обходится без согласия и наслаждения.
Одного ученика обнаружили оголенным в своей келье на коленях в месте, залитом солнцем. Он бил себя по спине связкой ремешков и от боли, а вернее от стыда и испуга потерял сознание. Его уложили на кровать, пришел врач, чтобы осмотреть его. Юноша был совершенно разбитым.
— Зачем вы это делаете? Кто велит вам это?
— Никто. Мне это нравится.
— Как деградирует порода! — заключил врач. Кающийся был внуком генерала королевы
Изабеллы II[Изабелла II (исп. Isabel II) (1830 —1904) — королева Испании в 1833—1868 годах, с 1837 года первый конституционный монарх страны.] выигравшего сотню сражений.
Пунктуально соблюдаемые мероприятия Страстной недели завершались причастием в четверг. Это была вершина религиозного года и только в этот день для нас проводили праздник в главном алтаре базилики. Даже менее чувствительные должны были испытать страх. Здесь находятся результаты наших молений, исповеди вгонявшей в краску, невыразимых сочувствий. И здесь же проходит завершение трехдневных богослужений, из которых мы выходим наполненные решимостью преградить дорогу каким бы то ни было иллюзиям и без того уже растоптанных, и обуздать свои чувственные желания. Тот, кто принял веру через страх, спросите его, как он желает обогнуть мыс, ценой своей гибели или потерей здоровья? Те, кто приняли веру от отца, новички, не обладающие благочестием по возрасту, выказывают смирение более отрадное, чем то, что изображают нам у подростков мучеников. Под сводами храма, монахи и ученики, община Сан-Лоренцо, послушники, монастырь полностью, построились в длинные ряды. Певчий на хорах выкрикивал героические антифоны[Антифон — в католическом богослужении рефрен, исполняющийся до и после псалма или евангельских песней.], в прозрачной тишине его голос подталкивал нас к алтарю, где священники служащие мессу сменили траурные одежды на белые. Душа, анестезированная происходящим, перестает болеть. На сердце стало легко. Будем ли мы наконец-то прощены? Полная тишина. Певчий теперь все больше молчал. Монахи, черным ручейком идут причащаться, пристраиваясь к мигающим верующим и, приняв у служки потир, делают из него глоток.
XIV
В то время я перестал исповедовать свою естественную религию, которую принял в результате спонтанного подражания людям. Хотя по имени я христианин, но еще в детстве вернулся в подлинное язычество и, читая воспоминания евангелистов, заставлял себя представлять осязаемые образы их персонажей, что позволило мне сократить, насколько можно, этот традиционный перечень деревенских мифов. Не то, чтобы естественные силы обожествляли себя или содействовали воображению человека, а то, что они были способны через восхитительный пейзаж показать коммуникативную силу божественного, а делая это другим способом, затупляли бы мою чувственность, и ущемляли мой разум. Какое разочарование я пережил, когда позже, противостоя сущности чистой морали, познал зло и добро, наказание и поощрение.
Моя любовь воскрешала Христа, его учеников, святых женщин со страниц описывавших их жития, то где-то на небольшом поле, то в долине, то в саду или роскошном парке. Это было сентиментальным следствием моего первого восторга от вида великолепных произведений, созданных игрой света, от иллюзии покоя рядом с источником на берегу, очарования от римских развалин — это были руины храма, от дворца, обработанного до блеска сакральными преданиями. Вне пейзажа религиозная суть теряла свое основание, без эмоциональной наглядности она растворялась в метафизическом ворохе Символа веры, где вы ничто не осуществите ни находчивостью, ни любовью.
Секрет весны в Эскориале в том, что в пору моего созревания она навсегда прервала переход от наивного созерцания мира к излияниям моей религиозности и научила меня разделять эротические соблазны на хорошие и дурные. Этот секрет вы никогда не раскроете на весеннем поле без гор, до которых простилается лес Энарес; потока реки такого звучного зимой; гирлянды вязов по краям неровного пастбища; гребня горы, высеченного из перламутра и опала, который не такой близкий, чтобы подавлять и не такой далекий, чтобы казаться черточкой; куска податливой земли, открытой и хвалимой людьми, которые исполнили на ней обряд посева; а между пригорком и рекой красивой долиной, являющейся укрытием для непокорных фантазий. Земля открытая и очень пустынная, и как бедное украшение на ней — одинокий вяз, небольшой луг, заросли полевого дрока, небольшой ручеек, дрожащий от сверкающего веселья воды, которого едва достает, чтобы увлажнить траву вдоль бережков.
Поле, бывшее отрадой в лучшие времена, имело для меня большое значение, как место невинных развлечений. Мне, потерявшему способность простодушно радоваться даже от намека на остатки пейзажа в человеческой памяти, хотелось вновь увидеть это поле. Очеловеченное мною, поле живет так же, как я и повсюду следует за мной. Мы подходим один к другому. Я обязан ему стилистикой, и возможно помимо слова, уверенностью и ярким откровением, которые не затухают с годами. Оно обязано мне той значимостью, каким я наделил его, и разумом, которым до меня оно не владело. Как назвать побуждение нашей души оставить нечто свое там, где придется, и насытиться вещами или получить от них столько, что не сможешь освободиться от них, не оторвав с болью от себя? Ненасытность, которая не утоляется без потери чего-либо из собственного достояния.
С огорчением смотрю на это поле, объятое моей любовью, как будто бы вижу, что оно восстает против меня, требуя правду, которую я не смог ему дать и похороненные в течение моей жизни мечты, все еще приятные, потому что они умерли.
Или может быть покой этих мест — это самообман, а воспоминания ложные? Хотел бы я это знать, но не могу. Тем не менее, если приму решение вернуть ему его невозмутимую красоту и покой, в котором оно находилось до меня, то извлеку из игры света эффект в котором заключается его волшебство. На склоне сверкает зеленью пастбище, опускающееся к реке, долина и пойма реки, накрытые запоздалым зимним солнцем, дымятся и нежатся в утренней ростепели. Клочья тумана взлетают над землей, разлетаются вдоль русла реки, рвутся об черные сучья тополя. По свежим бороздам земля истекает теплым паром, в котором все блестит и дрожит. А в более поздний час, наступает вершина дня, все наполняется тишиной, смолкает рокот мельницы, стихает сердитый шум Энареса.
Но вот солнце заходит за пригорок и уменьшается послеполуденная теплынь, наступает время, когда предметы нагретые солнцем вновь обретают свои определенные очертания, всплывают из беловатой массы, в предназначенных им цветах, а контуры их становятся бурыми. Западный ветер перекрашивает карминовый отлив вершин в огненный. Розовая дымка облагораживает жалкую скромность ложбин. Вровень с землей через узкую брешь, позолоченную заходящим солнцем, убегает день, и долина освобождается от света. Гигантские силуэты опустились на прибрежные деревья, робкие тени едва виднеются, каждая неясная фигура готовится выпустить свой призрак. Шпиль и большая башня гаснут. Сады, под тон своих олив, огораживаются пепельной стеной. В молочном воздухе материя обесцвечивается, а все еще подрагивающие фигуры створаживаются и застывают. Мир оказывается в холодном оцепенении, погруженный в сумерки он не только неподвижный и блеклый, но и безмятежный. Невозмутимая среда, она не впитывает и не вспыхивает ни от чьих чувств, радость очищается от преступной эгоистичности, которая обольщает ослабевшую душу. Такое бывает с моей памятью, родная земля возвращает печальный образ. Но не поле, наводящее на меня грусть, печально, а печально прошлое человека, неважно одного или многих и сердце, которое об этом грезит и помнит.
Каждый месяц май долина наблюдает тихую кульминацию события, ожидаемого весь год, вершину трудов во имя Бога. Она не понимала сути мистерии, но обнаруживала единодушие природы с легендой. Когда земля оживает, и под мягким теплом так хорошо ходить и смотреть на нее, бежать, кричать и просто дышать, мог ли Господь быть в это время страдающим или мертвым? В одну из суббот, которая выделялась от остальных дней года тем, что к ней нас готовили, и она заранее была предусмотрена в траурных церемониях, а королевская усыпальница, о чем мы хорошо знали, никогда не запиралась надолго, нас повели в храм. Здесь, не засвечивая светильников, проводили обновление естественных даров — огня и воды. Священник инсценировал возжигание огня, в память о древнем изобретении человека, а в память о силе более древней, более великой, разделившей своим дыханием воду и твердь совершал очищение воды, тяжело фыркая на кропильницу. После этого тишину храма огласили чарующие песнопения.
— «Возрадуемся! — кричали в храме. — Христос воскрес!». Да, мы ждали этого. Его смерть была обратимой, как и ежедневная смерть солнца.
Я сохранил в памяти очарование, произведенное на меня вероучением и литургией, наиболее привлекательные вещи из них помогали мне, при отсутствии собственного воображения, населять поле образами. Запомнил легендарные хроники, пасхальное ликование, невинную двусмысленность жертвоприношения. Запомнил утешительные посулы, бальзам от жалости, который не оставляет душевных ран; прислуживание у сияющей дарохранительнице, где любовь так реальна и ты забываешь об отдыхе. Запомнил символы ликования: золото алтаря, переливающийся перламутром ладан, гимны, пальмовые листья; рождение благости, уже оставлена позади Голгофа, и Иисус выполнил свое предназначение, озаряет землю, по которой идет и умиротворяет ее. Вот он встречается с учениками, которые шли в Эммаус[Эммаус - селение недалеко от Иерусалима. Здесь на пути в Эммаус произошло явление воскресшего Иисуса Христа двум ученикам. Более подробно: Св. Евангелие от Луки 24:13-32], это произошло на дороге стесненной с обеих сторон хлебостоем; в прохладном укрытии на берегу реки, они разделили каравай. Какое наслаждение! Его смерть лишила их сна, бедные рыбаки, сомневаются, несколько разочарованны, еще больше опечалены, они отказались изгнать из своей жизни божественные химеры. Будучи весьма удрученными, они вдруг вновь обрели любовь и детскую душу. Я понял глубокий замысел это сцены — она была наполнена желанием утешить. Подходящее заблуждение, дающее надежду ожидающему смерть.
Явилась бы однажды ватага очаровательных призраков, желательно скорее, чтобы стать моими служителями. Я мечтал об этом, понимая, что это всего лишь грезы, однако надеялся, что жизнь преподнесет мне это чудо, это обещание, что уняло бы душевную боль от первого непродолжительного испытания, и любое желание всегда встретилось бы со своим предметом, подводя итог тайне лет проведенных в хладнокровной счастливой одержимости. Поэтому поле торопливо напевало чарующую песню, соразмерную с моим порывом достичь мужской силы, с которой бы осуществилось благостное подтверждение моего предназначения. Песня, оплаченная слезами благодарности за то, что тебя, несомненно, ждет огромная удача, за жизнь пронизанной эмоциями в природе соответствующей моим пределам в которых божественное было с любовью уменьшено до размера моего честолюбивого сердца. Цветущее детство, которое однажды увяло, прослушав проповедь одного иезуита.
XV
Октябрь. Виноградники еще не лишились листвы, когда разрушив ту иллюзию свободы и сладостного отсутствия раздражителей, что несут в себе школьные каникулы, я вернулся в школу. Свое свободное время я использовал в основном для безудержного чтения. Лето пролетело незаметно. Близлежащие городки Алькаррия и Компинья[Алькаррия и Компинья – районы провинции Гвадалахара.] предлагали множество легкомысленных развлечений, таких как ярмарки, охота, народные гуляния, которые одерживали вверх над моим равнодушием к этим вещам. Что еще остается делать молодому господину в этих условиях, как не сесть верхом и, пренебрегая устрашающим гостеприимством местных жителей, ездить из деревни в деревню.
Семья барчука влиятельная и имеет покровителей. Приветливо встречающие крестьяне пророчат, что молодой господин пройдет огонь, воду и блестящую карьеру, основываясь при этом на вырезанного из газеты покровителя карьеризма и мысли, подсказанные им большой политикой. Он остановился в лучшем доме деревни. Остерегайтесь уязвить болезненную гордость своих хозяев, которые могут испытать огорчение, когда вы меньше всего этого ждете. Земледельцам лучше удается формулировать вопросы, чем давать на них ответы. Они говорят на своем языке, в котором барчук мало что понимает: пшеница, виноградник, мулы, овцы. С тактичной настойчивостью они заманивают вас в хитросплетения своих дружеских чувств и неприязни, и вы слепо попадаете в эти сети.
Здесь не надо строить из себя аристократа-ханжу, а кушать то, что подают, пить столько, сколько поднимают бокалы, курить то, что вам предложат, танцевать, если они танцуют или играть, когда играют. Даже не будучи близким или членом семьи к вам будут относиться сердечно. А, если вы попросите обращаться с вами по-простому, то этим можете обидеть хозяина. Вам необходимо продемонстрировать свое богатство и, не забыть, прихватить что-нибудь из кладовой, скотного двора или погреба. Чрезмерно расхваливать здесь не принято. Молодой господин хвалит достаток и усердие хозяев, но смущается от подарка? «То, что есть, я предлагаю от сердца», - объясняет хозяин. Этот жест раскрывает его прямоту и крупицу опасения. Ведь, что если он не будет выглядеть добрым. Так что не осуждай его и прими во внимание его щедрую душу.
Этикет богача в Дагансо, Бриуэге или Анчуэло[Дагансо, Бриуэге, Анчуэло – городки расположенные в провинции Мадрид] строгий и пространный, как в королевском дворце, но превосходит его по утонченности и вниманию к объекту гостеприимства, потому что выражает почтение не к хозяину дома, а к путнику, и задача его — ошеломить гостя удовольствием. К счастью, до крестьян не дошел старинный обычай короля Периона[Король Перион (el rey Perion) – герой популярных средневековых испано-португальских рыцарских романов «Амадис Гальский», являющийся по сюжету отцом главного героя Амадиса.] разделять собственное ложе со странствующими рыцарями, разумеется, не более чем из вежливости и оказания чести. О других мотивах подобного обычая в алькове я умолчу. Прекрасная Квитерия[Квитерия (Quiteria) — святая Римско-Католической Церкви, мученица и дева. Квитерия имела аристокра-тическое происхождение.] ждет в своей деревне не красивого и бедного поэта, а состоятельного Камачо, который пройдя все необходимые формальности, перевезет ее в Мадрид, где ее ждут приятные представления в театре и церкви.
В описываемое время я проходил школу деревенских обычаев. В том возрасте начинаются мои хождения по обоим берегам Энареса: в Алькаррию – рыжую, утыканную башнями, с богатым прошлым, ожидающим своего рассказчика и Кампинью, такую скудную, что лишь один подсолнечник украшал ее сухую землю. В начале осени здесь совершается очень старинный обряд, связанный с радостью от полученных благ с полей, перешедший от язычества в религиозный календарь под разными названиями. Успокаивающий сентябрьский дождь восстанавливает мягкость земли, покрывает ее довольной безмятежностью и очень приятным очарованием. В редко встречающихся садах показываются цветы. Прорастает новая трава. Упавшие на землю семена напитываются водой, открываются, издавая запах. Земля вновь обживается.
Статуи Христа и Девы Марии покидают свое место в приходских храмах и на девять дней отправляются получать дань уважения в одиноких деревенских обителях, изредка возвышающихся на обочине дороги, склоне холма или теснине гор, где римлянин, насаждая цивилизацию, возвел мост, открыл часовню, отвел воду источника в фонтан. Затем начинается сбор винограда. Местные жители беспричинно веселятся. Хозяин торопится получить доход, но люди послушные голосу крови, древней, как их родная земля, работают, срезают и отвозят виноград, как на празднике. Они испытывают радость, не смотря на то, что работают в пользу чужого, точно также как вол пашет для других или приносит мед пчела.
Лишь один день в году разрешается отдыхать крестьянину зрелого возраста. «Первым делом, — говорит трудолюбивый земледелец о своем урожае, — надо собрать то, что дает Бог». Урожай собран и будет правильным вознести молитву земным божествам, но теперь не в упование, как весной, а в знак благодарности. Земледелец, серьезный на мессе, готовится наверстать упущенное на варварской корриде. Ни с чем не могу сравнить, как эти люди зажигают, когда отдаются ежегодной утехе. Неотесанный потомок карпетанов[Карпетаны (исп. carpetanos) — кельтское племя, обитавшее в древности на территории современной Испании в районе Мадрида и части Гвадалахары и Толедо.] старается продлить удовольствие, усилить его. Он смешивает благочестие и шумное веселье, еду и религию. В день Христа или Девы Марии они почитают свой собственный живот и, как идолопоклонники, жертвуют сотню быков Молоху. Кровь от гекатомбы[Гекатомба (греч. «сто быков») — в Древней Греции — торжественное жертвоприношение из ста быков.] и вино, называемое в знак восхищения и уважения — «кровь Христа», окрашивают площадь. А вот человеческая кровь не струится так обильно, как это хотят сказать филантропы.
Алкала, демонстрирует неподражаемые наглядные примеры жителям сельской местности. В старом Комплуто[Комплуто (Compluto) – вульгарное название города Алкала в прошлом.] важнейшие творения разума скрывают народную жилку. Здесь во всем царит городская умеренность, берущая свои корни от строителя форума, дворца претора, фронтона, которые были возведены на побережье, чтобы возвеличивать триумф Цезаря. Римлянин, попал в цель, навсегда сохранив преимущества этой земли, которой так легко управлять, сделав ее естественной частицей империи юристов и земледельцев. Однако наносы от наводнений хоронят древние сооружения, а батрак обрабатывает землю уже более современным способом, чем это было во времена мучеников[Эпохой мучеников в христианской историографии называют время правления римского императора Диоклетиана (284- 305гг.), когда христиане подвергались самым строгим гонениям.]. Протянувшийся на восток, город перестроился в соответствие с тягой к увековечиванию через строгую рациональную и ясную гармонию и тщеславие пренебрегающее местным колоритом, стремящееся занять место в истории.
Римская любезность посеяла, того не желая, другое семя на алкалианских земельных угодьях. Один проконсул обезглавил двух невинных последователей Иисуса. На камне, остались оттиски их коленей. Пропитавшись кровью мучеников, он приобрел очень редкое свойство, источает чудесную влагу, в которой верующие смачивают свои носовые платки. Привлекательность небесной милости сделала этот камень равным новому основанию города. Дети горожан получают покровительство обезглавленных детей, а город память о легендарной гибели и образ — дети, улыбающиеся во время пыток, получившие вечную жизнь.
С того времени город окруженный жнивьем стремится избавиться от крестьянских привычек, спонтанно подчиняясь этой идее, он улучшается, очищается и прославляется высоким слогом. То, что было или сохраняется в Алкала рождено благодаря добротным и великолепным знаниям радетелей важнейших замыслов. Разум поддерживает римский тезис о том, что вера поглощает и сжигает в своем факеле народную сущность, облагораживает чувства и подчиняет их дисциплине, а величие и аскетизм достаются господам. Историческое имеет сходство с сущностью города, и в истории приживаются эмоции, которые она распространяет.
Поэтическое благоговение от наивного реализма на уровне народа надоедает уже на протяжении веков, а он распространяется так хитроумно, что никто о нем не догадывается. Не менее изумительна ничтожность его творческой фантазии. Деревенское воображение, покоренное городской жизнью теряет в городе, таком авторитетном для него, искусство творить, использует свою энергию на утвержденные чудеса, в нем нет полета, оно не прорицает и не пугает, и ничего не изобретает. Как будто свирепая мотыга прошлась по ней. «Ведьмы», определяющие беременность, были подвергнуты процедуре экзорцизма. А о великанах, только об одном есть известие, о великане Мусараке[Великан или мавр Мусарак вымышленный герой из ХХIХ главы «Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса], погребенного в огромной пещере Зулема. Видимо это был бедный великан, если умер от ностальгии в эмиграции. Эту пещеру прозвали «пещерой великанов». Ее населяют летучие мыши. Алкалианцы, которые повсюду лепят мемориальные доски и стремятся превозносить ономастику, не переименовали еще ни одного места в честь Мусарака, не ищут его большую могилу и не отмечают его столетний юбилей. Может быть, они догадаются это сделать.
Сегодня появляются геологи утверждающие, что на земле прежде была эпоха великанов. Ископаемых черепах уже нашли, а останков великанов, ни одного. Город обращает деревенские чудеса в свои. Является Дева Мария пастуху и Алкала присваивает это чудо себе. Как-то в тополиной роще Энареса нашли образ Марии. Его отнесли в Магистратуру, но образ сбежал оттуда на то место, где он явился. Его снова отнесли, а он опять сбежал. Толкователи объяснили волю Богородицы: расположить место поклонения в лесу, в том месте, где был найден образ, таково ее желание. Город придумал компромисс, соорудил часовню и установил в ней явившийся образ. Небесные власти не упорствовали, они согласились с произволом гения законоведов, наследия Рима.
Старый ствол дает дурные побеги в пригородах. Хозяева постоялых дворов и кузнецы Пуэрта дель Вадо, хранители пословиц — кладезь старинной мудрости, сидя на лавках с подветренной стороны дома или кузницы выговаривают, словно подают милостыню, неприветливые слова, выказывая этим недостатки своего здравомыслия. Мясники с улицы Рыбного рынка, любители чрезмерного пития вина. Толстые шлюхи Кармен Босоногой, роем слепней нападают на солдатню. Пузатые стригальщики из Пуэрта де Мадрид, их щипцы и ножницы вложены в пояс из кордовской кожи, и ни капельки в них нет цыганского, они разговаривают с животными, так же как это делает цирюльник со своими двуногими постоянными клиентами. Этот же цирюльник, изворотливый ремесленник — охотник, а его напарник — священник с ружьем и собакой, наследницей ручного хорька дона Диего Миранды. Монах-распутник держит на реке орудия ловли рыбы: удочки, верши, рыболовную сеть.
Этих побегов столько прилеплено к земле, сколько на ней вязов или винограда, они рассеяны по окраинам города, наполняя его тягостным представлением об истинном характере народа. В его кварталах пахнет горящими дровами. Они исчисляют время по официальным праздникам. Вещи они хранят в сундуках, установленных на сосновых ножках. Берегут репутацию хозяйства. Их религиозность ограничивается мероприятиями по совместному участию в процессиях Страстной недели, а выбрать, чей взять жезл — у Девы Марии[Жезл Девы Марии — обязательный атрибут живописного или скульптурного изображения, она держит его в левой руке, символизирует власть и суверенитет Богородицы.] Карменской или у Мерседеской, не менее значимо, чем тянуть жребий при наборе рекрутов. Ничто им не представит другую сторону смерти с большей силой, чем души из Чистилища. Они не одобряют манеры, и речь чужаков, примеры об этом могут привести селящиеся в постоялом дворе кровельщики из Валенсии, галисийские косари, мондехарцы[Мондехарцы - жители города Мандехар в Гвадалахаре известного винодельческой деятельностью] разносящие масло и сыновья перегонщиков скота из Маранчона собирающиеся перепродавать мулов. Хлеб из крупчатой муки и незатейливое вино их земли затмевают подобное во всем мире, и как дар они воспринимают неисправимое благоразумие, сопровождающее их от колыбели до могилы.
Вы не найдете в древних летописях Алкалы упоминания о деревенских событиях. А, имел бы он свою помпезную роскошь, если бы не та грубая деревенщина? История не обращает на них внимания. Они считаются незаконнорожденным потомством. У меня лично было много времени, чтобы познакомится с этим. Нам в школе казалось, что все равны, пока мы не усвоили классовое различие. Но, как расходятся затем пути! Я был мастаком опровергать манихейцев и донатистов в диспутах по правилам, мог урезонивать свое тщеславие и раскрывать сильные стороны, а в заслугу за это меня распределяли в классы считающиеся ведущими, между тем, как мои товарищи определялись на работу плотником, виноделом или поваренком.
Одним летом я встретил одного из самых смышленых мальчиков школы, который теперь выглядел великаном. Внутри закопченной мастерской мальчуган качал кузнечный мех, наклоняясь, как хромой на один бок, от чего кузнечный горн производил прерывистое фырканье. Между хрипами и свистом, как из груди астматика бушующий огонь извергал потоки белого света. Отблески озаряли часть кузницы и юношу с загорелым лицом, медным торсом, его руки, одна со щипцами, которая на наковальне переворачивала в одну и другую сторону сверкающий металл, а другая била молотом, нанося глухие удары по раскаленному железу. От подскока молота наковальня звенела. Циклоп, мой школьный друг, выковывал подковы для босоного мужика. Он отложил инструменты, вытер лоб рукой, ладони о фартук и двинулся ко мне навстречу. Мы едва смогли поговорить.
— Ты окончил школу? — спросил он. (Ему это было важно.)
— Ты видишь, друг, — опережая мои расспросы, добавил он, — я работаю.
Изобразил смиренную улыбку, словно говоря ею, — «Что я могу поделать?». Этим он льстил мне. Я понимал, что вынуждало его выказывать смирение, и старался быть с ним сердечным, чтобы не уязвить его.
То, что наш случай был в порядке вещей для школы, мы не сомневались, хотя возможно мой друг и не задумывался об этом. Уверенность в этом нас разделяла. «Зачем я пришел сюда?» — подумал я, выходя из кузницы. Мне хотелось понять свою досаду. Неужели это посещение, разочаровавшее меня, было ошибкой? Кузнец, более умудренный жизнью, боится молодого господина, то есть, он вернулся к своему общественному положению. Ничего не подозревая, в душе я все еще продолжал сохранять то неопределенное равенство из школы. Меня огорчило, что я не понимал этого. Впервые я наблюдал в чужом сознании отражение образа, созданного моим положением, а не моей личностью. От меня ждали поведение соответствующего моей принадлежности к классу узником, которого я был.
Сожалею, что лазал по ветвям древа прошлого, скрывая, что держал за пазухой яд естественной любви к земле и презирал его ствол, который пострадает, не потеряв веток под черенки для привоя. Моя тяга писать привело к улучшению качества слова. Казалось, что я переполнен литературными открытиями, столько всего наблюдаю: ярмарочные торги, золотоискатели, постояльцы придорожной гостиницы. Все это вертелось вокруг меня, становилось осязаемым, оживало, пропитываясь кровью, как те забавные призраки из прочитанных книг, и я мог каждый пример прикрепить к своему писательскому багажу. Ни красочность, ни форма языка не очаровывали меня так, как магия принадлежности к братству, коим знаком являлся неизъяснимый акцент.
Так уж совпало в моей биографии, что школа, в которой открылась эта способность, находилась в том же пригороде Алкалы, где я родился. Обследовав ее с тщательностью первооткрывателя, обнаружил в ней антиисторическую сущность, столь презираемую мною впоследствии. Пуэрта дель Вадо[Пуэрта дел Вадо (La Puerta del Vado) – район Толедо заселенный в 11-12 веках, в эпоху реконкисты известен, как пригород Сан Исидор, является центром традиционного гончарного производства региона.] кишит популярными персонажами из Кихота. Моя земля не наделила меня богатым воображением, каким обладал Сервантес, бывший превосходным выдумщиком. Другая, не менее выдающаяся отточенная практикой сторона его гения, в которой невероятная ирония и очевидный здравый смысл сверкают подлинным мастерством в сиянии наилучшего лиризма, соответствует местной манере осмеивать то, что очищает нравственную природу страны, которая не может уразуметь сумасшедших. Эта его сторона объясняет мне, то непреходящее, что есть в человеке от народа, земледельце или ремесленнике, независимо от исторической эпохи; разрушает типичную значимость великого хода истории; сводит к степени катастрофы колоссальные творения римской эпохи и напор другой религии, что в обычном испанском понимании называется узурпация.
Результат моей работы по преобразованию известных архетипов в современный вид и придания им формы предшествующего стиля был низкого качества. Иные образы оставались нераскрытыми. Официальная история, в которой меня учили искать свои корни, ушла под присмотр музея, став второстепенной пищей для любопытных. Чувства и замыслы оказались за пределами моей практики, не стали для меня тем, чем мантия императору или шлем для воина. Стандартный пафос демонстрировал страшную пустоту, став хранилищем воздуха для ортодоксальной высокопарности.
Мне открылось искусство, питаемое собственными корнями так необходимое для Испании, которое благодаря прекрасному чутью поднялось до вселенского масштаба и стало нарицательным. Испанская сущность находится в сфере искусства, а не политики. Что получиться, если смешать одно величие с другим, применить эту пару для формирования духа? Сервантес вкладывает в уста сумасшедшего воинственные и человеколюбивые речи, он отдал бы все вообразимые победы над турками, променяв их на незатейливую беседу Санчо с большеносым Томе Сесиала[Томе Сесиал (Tome Cecial) — персонаж «Дон Кихота» Сервантеса, кум и сосед Санчо Пансы, весельчак и вертопрах] в тенистом лесу. Я тоже променял бы их только ради удовольствия прочитать, а не за славу, что написал это.
План какой-либо империи можно лишь копировать. Цезарь, Карл V, Бонапарт занимались убогим плагиатом имперского катафалка, который, уменьшаясь из века в век, превратился в пыль. Слава Октавиана или власть Людовика XIV могут трактоваться, как комические. Филипп II[Филипп II (1527 —1598) — король Испании из династии Габсбургов.] восхваляемый как Бог (есть верящие во все) и проклинаемый как дьявол (остались норовистые протестанты), вселяет в меня нескончаемый восторг. Представьте себе грандиозную пародию, которая освещает, мрачный до настоящего времени, лик короля и дарует ему первое место в мире уморительных мифов. Кто превозносит личные помыслы, а сам получает диплом толкователя божественного замысла, тот не заслуживает никакой другой славы кроме как пародийной. Творения гордыни, мессианского духа, фанатичные планы приводят к болезненному комизму, свидетельство того, что неизбежно в финале карты раскроются, и они будут развенчаны.
Комизм происходит от нахождения под властью самодовольства, от своей собственной значимости. Честолюбивый властелин не избежит наказания комизмом, даже если он осознает, что является негодяем. В королевском дворе самым умным существом был шут, посланец потомству, он хорошо знает, что на роль императора стремится тот, кто не годен, ни на что другое. Внушать честолюбие это гнусное занятие. Персонажем всемирного театра достойного сожаления представляется мне Макиавелли, который растрачивает свое остроумие на глупые цели и его съедает злоба патриотизма. Самый нудный из пишущих на испанском языке это коварный Грациано[Бальтазар Грасиан и Моралеса (Baltasar Gracián y Morales) (1601-1658) иезуит, испанский писатель «Золотого века», писал на дидактические и философские темы.], упрямый иезуит, полоумный от тщеславия, потому что талантлив (случай невероятный), ставит цель – набить себе цену в жизни пуская в ход липовые материалы. Смехотворное ухищрение. Басни насмехаются над лисой, которая вовлекает в хитроумие свои четыре лапы. А приговорите к поэзии самого хитрого человека и он поседеет.
Поэтическое чувство может быть только подлинным, и жалко, если его нет. Долговечно, бескорыстное творчество, красота которого несет высокое понимание жизни, непременно оглядывает свою душу в размышлении, и приходит в восторг от обычного телесного. Шекспир и Сервантес невосприимчивы к насмешкам. Я не могу смеяться над ними, даже имея желание посмеяться. Снисходительный гений, поднимается на свою орбиту, не прибегая к помощи моей крови или моего пота, но оставляет мне вдобавок свое сердце в залог. Огромной чувствительности гения свойственно быстро дойти до существенного, которое недоступно простому мастерству. Такой поэт на одной странице мне откроет об Испании столько, сколько я мог бы изучить, бегло прочитав весь архив в Симанкас[Симанкас (Simancas) – город в провинции Вильядолид, в крепости которого король Карл I основал государственный архив Испании, действующий до наших дней.]. И, не только о прочих вещах, но и тех, которые имеют значение лишь для меня.
Поэт, воспевающий облитый огнем зари горный хребет и вкус воды падающей с его скал, формирует во мне истинного сына Испании, в этом его постоянная цель и добродетель и это намного эффективнее, чем изящные планы школы в Сан Лоренцо. Помимо всякого вздора, поэт описывает не только нравственную жизнь, но и провозглашает более значимый гуманизм. Чуткость не может возвыситься до благородного звания, если ментальное жало не подстегивает его. Именоваться национальным поэтом — есть забавное тщеславие, на тебя, как на манекен напяливают ленты и перья, и дождем льют слова, которые не выражают никакие чувства.
Есть у меня мучительная тайна, я игнорирую произведения романтизирующие Испанию, побуждающие чувственную способность воспринимать великое сущее через картинки, показывая в них красоту ее характера. Но картинки эти ничего не выражают и они не трогают меня. Может мое сердце черствеет, тогда почему оттаивают другие? Моя натура отказывается быть закованным в маскарадное облачение, или устраивать фальшивый спектакль одетым в саван на вершине могильного холма.
Имперский катафалк ослепляет. Вы слышали, чтобы в пору моей юности, кто-нибудь, стремясь выразить свои мысли об Испании, вопил перед нами, что испанцы самые древние? Что все испанцы, родившиеся до настоящего времени — самые родовитые и требовал, чтобы испанское потомство не скрещивалось с другими расами, полагая, что чистая Испания девственна и не взрастила за двадцать веков ни одного отпрыска? На наших глазах разрушались катафалки. Ушла в прошлое австрийская династия, а в Догансо[Догансо (Daganzo de Arriba) – город и муниципалитет в составе района Алкала, провинции Мадрид.] по-прежнему правят алькальды, избрание которых видел еще Сервантес. Мне это известно, ведь они мои друзья.
Алькальды, Трифон, из гончарной мастерской и хозяин постоялого двора «Зеленый крест», не тратя попусту свой юмор, поймут опасность ослиного рёва[Автор намекает на событие с ревущим ослом описанное Сервантесом в главе 27, части II Дон Кихота, в котором два алькальда ревели ослом, чтобы найти свое потерявшееся животное, а жители близлежащей деревни, думая, что те их дразнят, поколотили глупцов.] и нарекут действующих лиц соответствующими именами. Их мнение будет близко к наблюдению поэта, подмеченное им в какой-нибудь деревне, может это была великая Чилоэчес, где ткут полоски для плетенок со времен акклиматизации здесь эспарто, не зря ее называют колыбелью ремесленного производства Испании. А прочитай, они «Поклонение Кресту»[«Поклонение кресту» (La devoción de la Cruz) — философская драма испанского драматурга и поэта Педро Кальдерона], охватит ли их хотя бы крупица вдохновляющей идеи.
Произведения умозрительного гения, почерпнутые дедуктивным способом из общих представлений, в которых под внешним видом человеческого придают сценическую форму богословскому спору, блекнут, если проверить их честным образом лакмусовой бумажкой народного восприятия. Можно ли существовать, даже имея жизненно важное дыхание, если идеи исчерпываются, слабеют, а направление мышления меняется? Дорогу для слова окаймляют погребальные постаменты близнецы политического режима. Реалистическое отображение жизни разрушает их настолько больше, насколько их искажает или обостряет пародийный замысел.
«Придет ли день и, на мужьях в Кастилии будут пахать», — говорит Кеведо[Франсиско Гомес де Кеведо (Francisco de Quevedo) — испанский поэт и прозаик (1580 — 1645).]. Кто может быть «врачом своей чести»[Намек на пьесу Кальдерона «Врач своей чести» (El medico de su honra).]? Непостижимое совершенство – зловещее и мрачное; рассуждения священника, давшего обет безбрачия; корысть, введшая в заблуждение чье-то сердце — как у Отелло — без любви. Накопленный опыт доказывает свое поражение тем, что вытаскивает невыразимое безумие людей наружу. Ревность – это порождение плоти, третий враг души[Библия указывает на трех врагов души человека: мир — с его искушениями; плоть — греховная по своей сути; дьявол — воюет против христиан и использует мир и плоть, вводя людей в искушение.]; дитя человеческое, его первый враг; это честь, покровитель кальдероновских рыцарей[Кальдероновский рыцарь — в более чем 200 пьесах написанных Кальдероном рыцарь предстает как образцовый христианин. Здесь Асанья иронизирует над образцовым христианским рыцарем Кальдерона.]. Я не говорю о болтающемся в интеллектуальной сфере демоне, который смущает веру, основываясь на том, что он теолог. Кальдероновский демон — строптивое, всесильное и несколько глупое существо, настойчиво склоняющее к ереси силой силлогизмов.
Но вас одолевают не силлогизмом, а милосердием и надеждой. Люди не испытывают невзгоды из-за веры и не убивают хладнокровно из-за дела чести. Даже рожденные по оплошности в распущенности, в безнадзорности, в умеренном течении жизни кажутся более христианами, чем герои великого поэта католической монархии. Оплошность — редкость для героизма, выявленная наблюдателем, говорит о том, что человек может делать ошибки, а это рознит его от образцовой куклы.
Найдется ли прототип испанца, способный покорить меня: железный, с едва ощутимой плотью на костях, с интеллектом эрготиста[Эрготист — полемик применяющий систему аргументации через преувеличенные или используемые с избытком силлогизмы.] и фанатичной душой иудейского пророка, незнающий улыбки, простодушия, прощения. Те, которых описывает поэт, переносят свою тяжелую меланхолию на придворный гардероб: одежды из алого шелка, роскошная чернота бархата, золотые повязки. Мое подлинное мнение о соплеменнике такое, это человек без злого хмурого вида и душевных мук, родственный мне, но бегает в другом стиле. Мы занялись Африкой[Имеются в виду колониальные войны Испании в Африке в ХVI - ХХ веков, начало которым положила Алжирская война (1505 - 1540), а последней была Третья марокканская или Рифская война (1921—1926).], ведя бесшабашную войну. Руководствуясь избитыми выражениями очень приятными для монахов Эскориала, типа: «историческая миссия», «восхваление Креста», которые были переведены в словообильный, но тщетный гнев.
Люди, ремесленники и земледельцы покорно ходили на свою работу, оставаясь глухими к военной славе, чуждыми ненависти, проклинали при случае Марса и его приспешников. Может ли этот апатичный народ, развращенный грабежом другого народа, осознавать свое предназначение? Отрицательный ответ я получил из одного известного текста. Добрый гражданский дух показывает сцена расставания Санчо и Рикоте[Сцена расставания Санчо с Рикоте, его соседа и мавра по национальности, описана Сервантесом во 2-ой части 54 главе Дон Кихота.], родственных друг другу испанцев, тщетно побуждаемых испытывать взаимную ненависть по причине государственной необходимости. Король своим указом постановил, что Рикоте является врагом[Речь идет об указе короля Филиппа III об изгнании из Испании мавров и крещеных мавров-морисков осуществлявшееся в течение 1609—1614 гг. (исп. Expulsión de los moriscos).], но он не был врагом Санчо, ведь оба они сыны одной и той же земли. «Кто бы мы ни были, — говорил Рикоте — мы плачем по Испании, ведь, в конце концов, мы родились в ней и она наша закономерная родина». Король посажен по правую руку Господа и осуществляет преследование от его имени. Рикоте предстает более религиозным и даже больше христианином и смиренным перед божественным, чем король: «Я всегда прошу Бога, чтобы он открыл мне глаза, дал понимание и раскрыл, как я должен ему служить». Санчо с жалостью воспринимает его речь и не видно, чтобы он пылал от негодования или желал бы растерзать неверного, наоборот, он скрывает преступление Рикоте и готов стать виновным в измене. Они делят хлеб и пьют вино из одного бурдюка. Где прекращаются религиозные распри? Там, где мориск[Мориск (el morisco) – мавр (араб) принявший христианство.] и христианин вкушают приятный завтрак.
Дискуссионные темы подаются поэтом умозрительно, под разным внешним видом. Он провозглашает политические догмы, сходные как близнецы с религиозными, даже если они противоречат практике и общепринятым взглядам, и подчиняет им свое творчество. Простой человек молчит, сдерживая свои чувства, — это ли не предостаточная плата, чтобы сделать свое детище достоянием славы. Кальдерон как поэт скатился вниз, стал пропагандистом. Из официальной военной сводки о сражении он делает комедию «Осада Бреды»[Осада Бреды (исп. El sitio de Breda) — осада и взятие испанскими войсками города Бреда в ходе Восьмидесятилетней войны в Фландрии в 1625 году. Это событие легло в основу драмы Кальдерока «Осада Бреды», которую Асанья называет комедией из-за напыщенности и патетизма.] и дает строптивым соотечественникам Санчо и Рикоте напыщенный наглядный пример непреходящего солнца над империей:
«Много ли это, если монарх
одновременно имеет двести
тысяч человек в одну кампанию
воюющих и защищающих веру,
и он просит своих вассалов,
чтобы помогли праведным рвением,
послужить благочестивому делу
такой религиозной силы?
Душа и жизнь — это мало;
что имение по праву
естественному свое у него;
хотя обширность его империи,
может засвидетельствовать солнце,
если у светила найдется время».
[Строфы взяты из монолога Алонсо во II акте драмы Педро Кальдерона «Осада Бреды».]
Является ли это испанским мотивом? Тот ли образ мы создаем? Мое зарождающееся отвращение будет стоить греховного богохульства? Должно ли будет юношеское сердце в поисках благоприятной атмосферы оборвать все, что его связывает с гением родины? Он пришел, чтобы успокоить во мне врожденную для моего народа мужественность. Уничтожая ложных богов, мои жалобы уже не будут звучать как богохульства. Короче говоря, я стал на сторону крестьян, против их господ. Народная жилка влекла меня к литературным образам соответствующих благочестию. Благодаря этому источнику на нашем языке произносятся самые нежные и восхитительные слова, и сотворены те немногие фигуры речи, которых достойна наша любовь.
Обвините вы меня, если я расстроил вас тем, что крестьянин расставил все на места, что я смог быть плодовитым, что не забеременел фривольной патетикой? Из факта вы должны вывести теорию, понятие крестьянство поднять до теории крестьянизма. Крестьянину не хватает коллективной памяти. Никто не считает себя более самостоятельным, чем он, в его лице мир начинается и закончится. Он не поддерживает общественный договор. Его позиция не хорошая и не плохая сама по себе, с точки зрения истории — есть вандализм. Его значимость зависит от осознания того, попали ли мы, в цель, формируя в крестьянине направление его исторической движущей силы или нет. Жан-Жак, не приводя достаточных свидетельств, открыл первоначальную природу крестьянства. Россия представляет редкостное в настоящее время торжество крестьянства в действии, выстроенного на философии. Будь я философом и экономистом то официально проповедовал бы крестьянизм, чтобы он формировал интеллект моих крестьян.
С подобной логикой, применимой в любом месте, мы бы нанесли вред. Редко вы найдете возчика, трактирщика, пахаря сведущего в философии истории. Разве что это были бы врожденные знания[Автор иронизирует над теорией врождённых идей противостоящей теории tabula rasa (рус. чистая доска)]. Их невежество и мое утомление, решившись сочетаться браком, породили бы жестокого героя, разрушителя всего, что вчера еще было признано авторитетным, эдакого Калибана[Калибан — герой трагикомедии Шекспира «Буря», грубый и злобный человек], который относится к историческим творениям, как Аларих к Риму. Не плохо бы иметь панцирь, как у черепахи, защищающий не больше, чем наспинник и нагрудник у Санчо в скорбную ночь Баратарии[«Скорбная ночь» (la noche triste) — под таким название вошла в историю ночь10 июля 1550 года, когда в Мехико восставшие против Кортеса индейцы убили 450 испанцев, 1500 дружественных им индейцев и 46 лошадей. Баратария (букв. с исп. дешевая) остров над которым Санчо был поставлен губернатором. Асанья иронизирует сравнивая печальную ночь Кортеса с седьмой ночью «губернаторства» Санчо Пансы, завершившаяся полным фиаско губернатора], которые не позволили моему герою двигаться, я бы пронесся в нем через барьер времени, чтобы задать вопросы испанцу 50-го века. Марс находиться намного дальше, но астрономы завели с ним отношения.
Подумаем немного об испанце 50-го века. Зачем ходить, осторожно вертя головой, выслеживая на воображаемом лице предков знак одобрения, если в действительности прошлое предстает перед нашим судом, а мы потомки являемся судьями, и нам предстоит вынести приговор? Наши предки, будучи героями, не стремились бы устрашить нас. Они зависят от нас, взывают к терпимости, нуждаются в ней. Нам тоже предстоит жить столько, сколько будущий испанец позволит нам жить. Мы не должны стремиться определять их жизнь, нам надо спасти хотя бы свою. Размышлять об удаленном во времени соотечественнике, к которому мы идем – благоразумно, если отставив в сторону апостольское тщеславие, постараться оставить ему в наследство беспорочную память. Это будет равнозначно созерцанию воскрешения в плоти в Иосафатовой долине[Иосафатова долина (ивр., «долина, в которой Бог будет судить») — одна из долин в ближайших окрестностях Иерусалима, упоминаемая в Ветхом Завете, как место, на котором Иегова будет осуществлять Страшный Суд].
Каждый день солнце дает свет в какой-нибудь иосафатовой долине, которую не может увидеть обычный простой народ, лишенный воображения. Власть, основанная на мудрости, во всем обвиняет прошлое, забывая, что есть разница между тем, как сделать вещь и знать, как это делать, а мудрец всего лишь изучает вещи, но не делает их. Вчера — им кажется рекой, которую уже перешли, завтра — бездной, куда низвергается острым водопадом река, которую мы переходим. Невообразимо широко направление грядущего русла.
Нынешний испанец поддерживает нас в том, что продолжая свой незаметный ход, поток одновременно тащит нас, и он перестает думать о границах, которые эта масса воды покроет силой подъема и разлива на пространстве неизмеримого времени. Испанец, рожденный через тридцать веков, воспитанный на нашей почве, и достигший любой нравственной высоты, где бы он ни был, будет моим соотечественником, как я Индибила и Мандония или Вириата. Мой долг беречь[Индибил и Мандоний или Вириат – вожди праиспанских племен выступивших против владычества римлян] все, что связано с Лепанто, Байленом и Сарагосой, но не более чем с Сагунто[Лепанто, Байлен и Сарагса – места сражений, в которых испанцы добивались победы. У Сагунто испанцы в 1811 году проиграли французам.] и нумантийцами[Нумансиец (исп. numantino) – житель Нумансии, синоним мужества и отваги в современной Испании. Во времена римского завоевания ценой своей жизни не сдали свой город врагу предпочитая умереть, чем сдаться.].
Умрет последний Папа. Не будет действовать Римское Право. Как идентичность испанца может пострадать от этих потерь? Какой вердикт собирается объявить нам потеря этих святынь? Мои крестьяне дошли уже до того, что им нужен переводчик, чтобы понимать своего сотого внучонка. Дистанция, на которой одни находятся, а другие будут находиться относительно моего окружения, придает нам схожесть с семьей. Крестьянин, что загоняет мне дичь в горах, и тот, что рубит дуб на поленья, чтобы жечь уголь в выжигательной печи, не знакомы ни с римским святейшеством – Его католическим Величеством, ни с Институтом языкознания. И в Эскориале бывают меньше, чем я в Кумах или Дельфах[Кумы – горд в древней Италии. Дельфы город в древней Греции.], и образ моей души для них такой же чуждый, как и для испанца 50-го века. И те и другие сходны, не смотря на то, что живут в разных эпохах тем, что не получили пропитку, которая формирует мое мышление, одним, в их времени она еще не знакома, а ко вторым, она придет, но под другим знаком. Но все они мои соотечественники или станут таковыми, даже если предлагают разрушить нравственные устои, которыми я живу.
Если вложение человеческого в обработку самого твердого каменного блока, есть темное варварство или животная сила; если Аталанта[Аталанта (др.-греч. «непоколебимая») — героини древнегреческой мифологии.] нас терпит, чтобы затем убить, то было бы неплохо предвидеть порождение ужасающих сил разрушения в крестьянстве, покоящихся до поры, как огонь в кремне. «Я глупо погружаюсь в небытие», — изрекает Монтень перед смертью. Меня это не печалит. По крайней мере, я бултыхнусь без глупостей. Яви им молодость, — мысленно обратился я к отчаявшемуся философу, — отмени законы времени и перенесись, по сути дела, в лучшую жизнь, уткнувшись в мягкую подушку.
Образ далекого испанца поднялся на моем небосклоне, как комета, предвещая гибель. Я встретил его рукоплесканием. Взывая, чтобы он выбирался из мертвых, я протянул к нему руки. Это было следствие страха, измышление переутомления. Самовнушение от слишком большого количества чтения, воспламенило чувственную ткань и принесло большую тяжесть внутрь души. Ночь — августовская ночь, дрожащие вязы, черная процессия кипарисов, покачиваю-щихся в сиянии серебра, неровное дыхание тишины — лишили поддержки мою бездарность. Разум и чувства упорно подавали мне множество неприступных тем, большое количество которых вызывало во мне скрытый туманный нигилизм.
Жить было страшно, это означало жить по правилам, закрыто, сознательно, но не по доброй воле, общее устранение недостатков, которые разум придумает. Сколько бесчисленных срочных дел явно обозначилось в голове и мне едва ли удастся рассмотреть хотя бы некоторые! Я чувствовал в общих очертаниях личную драму: разум доводит мой характер до совершенства (не важно, каким образом), при этом выдергивает меня из земли, в которой укоренилось мое собственное существо, а искусство критики шлифует мой характер. Если я запутываюсь в ясных суждениях, то питаю к себе отвращение, но я само совершенство, если продолжаю мысль до логического завершения.
Образ жизни Дон Кихота не возможен, если есть здравый рассудок и известно, что стадо овец есть стадо, а настоящая ветряная мельница имеет гигантский размер. Придет же в голову привязать человека к лошадям, чтобы подвергнуть его мучительной смерти. Драматическое решение, если на самом деле оно имело место, стремление быть самоубийцей, изображенным на эмблеме грядущего испанца, в жизни которого ты хотел растворить свою собственную. Замечено, испанская мифология покоится в своей ловушке, мне пока неизвестно какой, она еще не заявляла о своем недовольстве тем, что я ей завидую, потому что ей никто не угрожает. Завидуя, я вызвал перед собою подобную галлюцинацию, в результате, однажды ночью мною овладела страшная жуть ответственной жизни.
Мне будет простительно, что в моем возрасте я еще не был достаточно философичен[…не был достаточно философичен – недостаточно владел философией.]. Я пока еще подхожу к рефлексии и терпеливости. Не знаю, какие крылья вырастают у терпеливого человека. Великая милость, что я очень рассудительный, а в это же время, моя зловещая комета растянула свой путь и не торопится вновь, появится на небесах. Я научился объединять в приятное согласие болезненные расколы моей юности. Они приятны для меня, я бы сказал, привносят эстетическое наслаждение. Великое произведение есть то, которое может, обеспечить чистоту эмоций от прекрасного, которое еще в своих истоках замутнено трансцендентным пафосом, квалифицируемого как легкомысленный, поскольку может быть вульгарным и мещанским. Патетика, выплеснутая из площадей, притаилась на моем пути, подстерегает и вероломно нападает на меня. По своему упущению я столько раз хотел противостоять времени — моему единственному союзнику, и перевоплотится в подрядчика по восстановлению руин, и памяти — когда пришедшее в упадок образование вкладывает свои паразитические цели только лишь в получение удовольствия от созерцания и претендует еще на управление ее полетом.
Один монах подумал плохо о моем случае. Возвратившись в Эскориал в конце последних каникул, я ответил падре Бланко, который поинтересовался моим времяпрепровождением:
— Я мечтал разрушить весь этот мир.
В его глазах сверкала злость. Черты его лица сжались. Он весь поддергивался в ожидании. Его губы дрожали, желая выстрелить в меня какой-нибудь остротой, но от переживаемого злорадства ни одна не приходила на ум. Я начал объяснять и падре пришел в себя.
— Это искушение неподобающее твоим годам.
Он с напускной дружелюбностью положил руку на мое плечо. Помню кровавые прожилки, теряющиеся в лихорадочном блеске его глаз, и пузырящуюся пеной слюну на линии рта.
— Грех против Божьего промысла. Ты не христианин? Ты сомневаешься в Божьем промысле? Ты должен сказать об этом исповеднику.
XVI
Предусмотрительные послушницы Эскориала, не теряя бдительности, даже во сне держали свои лампы зажженными[Имеется ввиду «Притча о десяти девах» — одна из притч Иисуса Христа «О предусмотрительных и неосмотрительных девушках», приводимая в Евангелии от Матфея.]. Для этого необычного отделения школа смогла подобрать учебные предметы способные произвести в них перемены, которые, по мнению баснописца, могут вывести их из отупения. Каждый октябрь в вечерние часы на аллее сосен и в саду монахов мы вновь разглядывали их, разрумяненных ранними холодами. Во мне опять начинала расти надежда, увидеть, что девушки проявляют к нам интерес. Они дарили нам ощущение возвращения к привычному. Смятение от обретения прошедшего шло от их присутствия, а не от новой встречи с местом.
Наше внимание, хоть и лишенное эротизма должно было казаться им распущенностью. Повседневные школьные дела излечивали нас от привычки с каждой новой встречей рисовать их себе все более красивыми. В начале учебного года ученик, расхваливая свои похождения, признавался в таких смелых поступках, которые затмевали бахвальство каролингских баронов. А послушниц Эскориала вошедших в сферу их желания было столько, что хватило бы заселить весь лес Эррериа нимфами и дриадами. По воскресеньям Мадрид в лице нетерпеливых сеньорит оспаривал у нас желание обнять наших соучениц, они оставляли в коридорах следы приятных ароматов, а их изящные силуэты, походка, взгляды, поцелуи в подарок поднимали авторитет ученицы очень похожей на свою красивую сестру.
Нравственный дух здоровой школы требует фригидность. Строй свои правила на основании совести. Не впадая в аскетизм, оставь телу его здоровые средства. Ничуть не подрывая своё юношеское мужество дух борется не жалея себя.
Более благоразумный античный опыт запрещает Церере и Вакху, помогать Венере освежится в жару[Автор намекает на древнеримскую поговорку: «Sine Cerere et Libero (ie Bacchus) friget Venus», пер. — «без Цереры, богиня плодородия (еда) и Вакха бога виноделия (вина) — Венера, богиня любви (любовь) остывает», то есть «Без еды и питья – любовь остывает».]. Длительные говенья, ночные бдения, а также другие церковные наказания не соблюдались, и от такого счастья людям менее подверженным религиозному страху едва удавалось обуздать то, что аскеты называют стоячком.
Один юноша малаец, наполовину испанец, привезенный монахами из Лусона[Лусон – крупнейший и самый населенный остров Филиппин, лежащий на севере страны. Бывшая колония Испании.], как достойный внимания результат миссионерства, дал доказательство тем, кто возражает против изначального единства человеческой сущности. Бедный юноша плохо ладил с правилами фригидности в школе. Возможно, он был невосприимчив к вопросам христианской непорочности, а его совесть слишком близка к языческому варварству. Вряд ли этот невежа, как и другие его соплеменники, мог что-либо понимать, в религиозных таинствах.
Монахи рассказывали об одном тагале[Тагалы или гагалийцы — одни из народов Филлипин, их язык тагало является одним из государственных языков страны.] назначенном приходским священником местной деревушки, у которого в комнате глиняный кувшин для воды стоял между двумя горящими свечами. Викарий, объезжающий с проверкой приходы, изменился в лице, когда увидел, что этот священник за один раз освятил шесть арробов вина для мессы. «И вот такие люди — заключали монахи, — просят у правительства автономии!».
С моралью мой товарищ обращался вслепую так же, как тагальский священник со святыми таинствами. Какое дикое бесстыдство! Размышление о горьком опыте блуда предпринятое падре Альбиола оказалось бесполезным средством. Так как душа не в состоянии была вылечить его тело, разрушаемое им непрестанно. По воскресеньям он начал исчезать из Эскориала уходя в Мадрид в поисках народных средств лечения, такой дерзости завидовали все ученики. Один монах, большой знаток Священного Писания, размышляя об этом деле, возвысил его до широкого обобщения: — «Новый Завет отменил многие свободы, например многоженство, которое разрешалось Ветхим Заветом — «ad duritia cordis vestris» (из-за жестокости ваших сердец). Похоже, сердце малайца было сделано из бронзы.
Он был самым несчастным из школьников. Атмосфера, причудливость обычаев, строгость патриотизма были не менее жестокими для него, чем отводившие душу пустячными шутками товарищи, все это изводило его. Он смягчал свою ностальгию разговорами с монахами-миссионерами, которые возвратились с его родины. Монахи были очень старыми, они прошли путь из Филиппин на парусах и обогнули Адамастор[Адамастор – поэтическое название мыса Доброй Надежды (Мыс Бурь).], испытав невероятное везение. Это было, как они полагали, райское время для колонии, думаю райские для них, живших там в свое удовольствие, выполнявших роль наместников Господа и метрополии. Некоторые царили в подобных приходах по полвека, представляя свою расу среди тагалов в единственном лице, владычествуя в соответствии своему чину и белому лицу. В Эскориал они приходили на покой, немного не в своем уме, полные необычных переживаний. Отсутствие деятельности в монастыре, одиночная келья, европейские обычаи вряд ли заставляли их жалеть о своем щедром своеволии сатрапа на управляемых ими землях. Немощные последователи Легаспи и Урданета[Мигель Лопес Легаспи , Андрес де Урданета и Сераин – знаменитые испанские мореплаватели 16 века.] без энтузиазма взирали на отправляющихся к Филиппинам пылких новобранцев ополчения Христова.
Времена были другие. Я был свидетелем отправления чрезвычайной миссии. Как передавала молва, в нее включили по ошибке робкого и хилого келейника из школы престарелого брата Анхеля. Черная толпа, стеснившаяся у креста, пела, оглушая Патио де лос Рейес[
Патио де лос Рейес (Patio de los Reyes) – внутренний дворик Королевской базилики Сан Лоренцо, центра монастырского комплекса Эскориал.
], гимн Деве Марии Утешительнице. Трогательные голоса затягивали во всю глотку, разве что не ревели, со страстью и усердием, вкладывали пение в душу, а чувства в воздух, и мы ощущали их привязанность к школе и товарищам по учению, умиротворенной монастырской жизни и привычки, пресекаемые лишь невероятным повиновением.
Поездка обещала несчастья и кровопролитие. Восставшие островитяне принесли в жертву многих миссионеров. Брат Анхель перенес страдания, как Орфей, принял смерть на кресте. Узнав эту новость, мы объявили филиппинского ученика масонским пиратом. Не в нашей власти было расстрелять его, а не то его участи позавидовал бы Рисаль[Хосе Протасио Рисаль-Меркадо (José Protasio Rizal Mercado) (1861—1896) — филиппинский просветитель и учёный, испаноязычный поэт и писатель, идеолог возрождения народов Юго-Восточной Азии и филиппинского национализма. Публично казнён колониальными властями за якобы участие в подготовке восстания против испанского господства на Филиппинах.].
XVII
Мой личный бунт проходил в хорошей компании со словом, которым я вздымал злость, взращенную четырьмя годами отречения от свободного мира. Резким разрывом с моей верой я обязан недовольством тем, что она, неблагодарная, нарушила мою гражданскую свободу. Меня укоряли, всего лишь на словах, в высокомерии, отрыве от сокровища к которому они меня вовлекли, я стал для них примером идущего по пути разрушения своих способностей. Но и себя я обвинял не меньше. Я попал в затруднительное положение, с одной стороны, раздор в отрекшемся сердце, предлагающее не служить, а с другой - сознание, лишенное свободы в обмен действовать по привычке при определенных побуждениях, обеспечивающее известную помощь и которое, видя внезапно, что побуждения не действенны, прекращает помощь. Факты со всей очевидностью показывали, что мой разум выходил из этой ситуации, основываясь на давней изворотливости.
Разум был тем многолетним свидетелем, который ковылял за мной и от которого я не мог уклониться. Он был сведущий о моих следах, по которым следовал как собака, как попрошайка, настолько наглый или насмешливый, насколько дружелюбный. Если он не старше меня, то откуда он похитил свой опыт? Этот циничный наблюдатель сообщал мне о смертельном истощении чувств, некогда переполнявших меня, коими я остепенил свой дух. Разум был покладистым, я исповедовался, когда велели идти на исповедь, но сердце вероотступника питало отвращение к его податливым методам. Разве это не хорошо, что я смог вынести в этот кризис безбожие и верование?
Тогда я полагал, что у меня вновь появилось страстное желание освободить себя: но оно уже имело не то давнее свойство, это был поиск нового опыта. Я пользовался в школе всеобъемлющей внутренней свободой, никакие обязанности, никакое предназначение не могли впрячь меня в свое ярмо. Оставаясь один на один с дикостью, чувственная сила изнемогает, но могла крепчать в естественном и наиболее укромном недавно открытом мире. Внешнее принуждение далеко не обременительное, обязывало меня находиться во владениях невинности, пасло мое вожделение.
Суровое товарищество принимало мою склонность к возвышению вещей: дерево — лучший и более приятный товарищ; лес — лучшее общество. Чтение не граничило с пороком, это было лишь тихое общение с ближним. Жизнь Робинзона, утешение для потерпевших кораблекрушение на затерянном острове, возможно нуждающихся в развлечениях в меньшей мере, чем я. Так я использовал свою свободу. Я научился облагораживать эгоизм, не уповать на сострадание, понемногу осуждать любое желание, если оно стремиться расти сверх необходимого для достижения увеличения наслаждения, воздавать хвалу осмотрительности, снедаемое воздержанием. На будущее я обрисовал в общих чертах восхитительную картину для своего тщеславия, где свободно осуществлял путешествие всей моей жизни: инкогнито, без имени и положения, в угрюмой необщительности. Не плохое убежище, чтобы уберечь себя от зла в человеческих отношениях! Бедный, говорил я себе, желает рисоваться больше, чем богатый.
Этап моего сентиментального воспитания обещавшего вытащить из меня новую Альцесту[Здесь – человек готовый принести себя в жертву ради чего- или кого-либо. Пример взят из древнегреческого мифа об Альцесте, принесшей себя в жертву ради спасения мужа от неизлечимой болезни.], успел подойти к концу и исчерпал себя до совершенной усталости чувственного свойства. Религия и пейзаж перестали оказывать содействие моим фантазиям выдумщика, больше не помогали мне, направляли свою подъемную силу на незначительные цели, я не видел уже в них проекцию своей судьбы, как у вершины, что расстилает свой бесформенный силуэт по лесу Эррерия зимним вечером. Религия и пейзаж стали недружелюбными.
Вера диктовала наставления, а я отвергал идейное руководство мною, так что поощрять чувство, дающее вам силу, повторно ее использовать было делом бесполезным. Когда чувства ослабели, то прежний страшный религиозный пыл вызвал у меня отвращение. Едва гордость узнала, что была в повиновении, как отказалась подчиняться вновь. Раздражающая очевидность моей правоты, вопреки всем, разрушила фундамент дисциплины, поставило превыше всего абсурдность школы, ее бесчеловечный порядок, задуманный для попрания индивидуальности личности, запрещенной ею, а если такое случиться то душит ее с невозмутимостью палача, опуская до уровня посредственности.
Уменьшение моей сентиментальной логики, мыслящей лишь в том, что касается желаний и образа действий, довела меня до несправедливости. Подростковый эгоизм плакал впервые в муках неизлечимой любви не слезами беспомощного юноши, сладостных от самого рыдания, а суровыми слезами мужского гнева. Я поклялся не впадать в мученичество и освободиться от этих уз.
Цветущие лета пройдут, завянув, оставив мне на память монологи в Галерее[Веранда в Саду монахов], одиноко стоящей открыто посреди сада, как театр драмы надежды. После обеда я шел в Галерею, чтобы просить у солнца кусочек его равнодушия. Надменный сильный ветер яростно бил в Ла Лонху[Ла Лонха (la Lonja) – одно из зданий монастырского комплекса Эскориал.], гранитное узилище невольников. За каким трофеем охотился грозный ветер, набрасываясь всей своей воющей и ревущей массой на угол башни и Галерею? Находясь в безопасности от его напора, я слышал, как он, безрассудное чудовище, бил головою в камень, в то время, как мои глаза умоляли сад и рощу, находящихся в безветрии, об еще более сильной буре.
Дрожь светильника давит на тело, переливается в мои вены. Горящие вспышки, круговерть бликов, эффузия сияния и расплавленная в прозрачных вихрях энергетическая сила солнца призывают мертвую землю ожить. С каждой минутой ожидается большая суматоха. Что-то есть неотвратимое, что в ответ на светозарную коловерть, не допустит промедления катаклизма, который сцепит, наконец, землю с движущей силой света. Но тщетны ожидания. Земля не воскресает. Самшитовые узоры, обрезанные под призмы и шары кусты самшита, синеватые вспышки на далеком пруду, горбушки каменных глыб покусанных изголодавшейся непогодой противопоставляют текущему кипению небес безмятежность мертвого лика. Обильные солнечные ласки скользят по огромному безжизненному месту. Они будто дрожат от возбуждения, мучаются от недостатка экспрессии под этим видом. Земля в ее нынешнем теле хотела бы расцвести, но не может, это зима.
И башня, безрукая, застывшая на своем месте, хотела бы вернуться в каменоломни, чтобы снова стать горой. Ничего не хочется дереву, потеряв все, оно не в состоянии даже пошевелить одним листиком. А в каждую передышку ветра — необъятная, как эфир тишина. И одиночество, такое большое! Мои шаги заглушают очень давнее эхо других шагов, которые в каждое мое присутствие вписываются в память этой Галереи, оно выходит за пределы нынешнего времени и связывает меня с тенями, которые пришли и придут еще оплакивать свою плененную надежду. Против этого вывода, вновь возвращающего мою личность на круги своя, между ушедшим вчера и утром, я выработал клятву свободы.
Пустые угли тлена веков не заставят меня больше, давя своим авторитетом, воспринимать их, предоставлять им что-нибудь личное, прекратившееся расположение других душ, которые блуждают скорбной вереницей вместе с живыми, взывая о воскрешении, потому что необратимое время прощает наказание и за наш счет они добиваются своего желания — временной жизни. Что хотят от меня их угнетающие призраки — мир, пропитанный устаревшими замыслами?
Угадываю на горизонте легкий розовый туман, пятна черного дыма, приметы поселения — это признаки Мадрида. Там было начало жизни. Я предчувствовал его большие чары. В таком месте юношеские обещания бахвалясь, становятся такими роскошными и прекрасными, что превосходят сновидения. Возвеличил тайну, сохраненную для моего возраста. Все должно быть раскрыто и создано. Спешил жить как быстротечная молния, трудно постижимой, цельной молодостью, таким образом, чтобы практика подтвердила мой предварительный мимолетный прогноз, который сбудется реально и никогда не потеряет свою силу. О, какой чарующий апокалипсис! О, преждевременная одержимость! Какой дерзкий призыв трубы, бросающий вызов юности бурлящему грядущему! Юность, бранимая окружающими, ты добилась симпатии и горящая, в своем понимании, героизмом, дурно обращалась со справедливостью. Я одержал победу над жалостью и набожностью. Чего бы стоила душевная боль, если бы я не чувствовал ее, или результат, если я не начал работу? А те, кто промахнулись по мишени жизни, кого время отсекло бы передо мной, открыв мне дорогу, кто встречают солнце, лежа на спине — седеющая зрелость, старость, боящаяся смерти, ищущие в своем тяжелом положении утешение в том, что не являются молодыми. Они заслуживают лишь презрение. Им даже не было дано увидеть издалека землю обетованную, тогда как мне, дошедшему до расцвета жизни, выпадает доля возвышаться над ними. Кто из них рискнет испробовать мою силу предполагая сбросить меня в море?
Итак, я решился на большую поездку. Хотя я мог без помех перебраться за порог школы, но начало побега решил обставить романтически. Моим намерениям способствовало ухудшение видимости в окрестностях, туманный декабрь уничтожил форму и свет, завернув их в плавающие и влажные складки, это сделало меня невидимым. День и ночь заключили договор о перемирии. Дни остановились, похожие один на другой, сдерживая густым туманом течение времени. Ясность и сумерки едва различались. Ночь волнами разливала свое бесформенное газообразное тело по моей келье, пропахшее древесиной поблекших тополей, направляя на сияние моей лампы размытые серые формы серебра, приблудившихся с того места, где обычно находиться роща. Ни щелей, ни краев. Утро приоткрыло лишь одно веко, являя не глаз, а бездонный шар, без зрачка, затуманенный желтоватым потоком. Одна жуткая пара, две допотопные твари, невесомые в тумане, безмолвно приходили и уходили, нося камни. Мир, взятый ими в мрачные круглые скобки, казался совсем другим. Он виделся белым, густым, заполненным, более круглым. Он безголосый от холодности, а я, поэтому глухой. Небо сравнялось с землей, солнце от бессилия не могущее подняться в зенит, высовывалось из-за верхушек гор и играло на радужной оболочке замерзших ветвей деревьев. Одно дряхлое дерево обломалось. Лавины разрушали шиферную кровлю. Дезертировали последние жители. Горянки – валькирии, музы дровосека, сидя верхом по-женски с головой, обернутой в юбку, рассекали в полете над Лос Аламильос, их смех и вопли отдавались эхом, а на девственной белизне снега оставался извилистый ручеек их темных следов. Разве я не должен бежать? В положенный срок пылающий столп велел мне отправиться в дорогу, это были яркие огни поезда пыхтящего в ночи на границе Эррерии.
Однако наш покой был взорван и серьезные приготовления, которые я предпринял, оказались бесполезными. В начале учебного года мы основали газету. Это была излюбленная монахами идея, которые рады были вести обучение на более современном уровне. Лошади, театр, фронтон[Фронтон (frontón) - стена для игры в мяч, национальная игра басков.], зарождающийся футбол, и вот, наконец, пресса – Итон не мог бы конкурировать с нами. Под редакцию отвели пустующую келью, а редакторам дали некоторые привилегии в распорядке дня. Материал был отменный. Листы вощеной бумаги, которые лучший каллиграф группы, двигая должным образом стержень, царапал острием, а затем валик для раскатывания краски, печатная форма и рама для копирования – вот таким образом мы выходили в свет.
Налаживая печать, я испачкал свои руки и одежду, но не литературную совесть, сочиняя статьи, я еще не совсем с ней определился. Я предпочел бы работу машиниста тому усилию, с которым садился за лист писчей бумаги даже на час, леность не сулила много проку моей плодотворности. По сути дела, меня удерживали от письма почти религиозный трепет перед словом и необычное малодушие. С одной стороны, страх противостоять ему, предвидя его серьезность, а с другой смутное влечение, и желание объяснится с ним, чтобы согласится или отвергнуть, или, как это сделал бы любой более воспитанный, опробовать его. Это привело меня к конфликту большему, чем энергия моей взбалмошной юности. Не сознаваясь себе в этом, я уклонился от конфликта.
Я ничего не знал об искусстве. Не замечал перехода чарующих переживаний и мечтаний к завершенному произведению уже отделившемуся от мысли. Мне была доступна естественная полнота разговорного языка, и большинство моих школьных часов протекали в воображаемых размышлениях, возможно бредовых. Однако страсть упорядочивать слова, пунктуальная покорность слов приходящих в голову из дальних уголков памяти, для выражения фантазии, хотели от меня способностей по степени чуть ли не сверхъестественных и нарушения правил до одурманивающего меня желания. Большая любовь пугает. Она предпочитает, чтобы предвидели ее резерв, и просит о предвидении, как справедливости.
Я бы не дерзнул кощунствовать над невинной темой, но это непередаваемо, как было потрясено мое тщеславие, когда с ревностью и со всеми подобными вещами меня причислили к ученикам компетентным в слове. Вот так создание газеты! Другие бы испытывали эдакое ребячество, над которым допустимо добродушно потешатся (настолько попран тот первый и невинный страх) в то самое время, когда пора остепенится. Один проницательный монах (я должен скрывать, что мне оказывают честь?) разгадал мою тайну. Он затеял безобидную уловку и, когда я попался на нее, то потребовал мою способность писать стихи. Падре прочитал мне четыре потрепанных листа заполненных десятисложным стихом.
— Как они тебе?
— Очень хорошо.
— Прочитаешь их на вечере в честь Святой Моники. Скажешь, что это твои.
Пошел с листами к падре Бланко заведующему музами. Он принялся читать творение. По острому лицу падре бежала едва видимая усмешка. Я думал, что он будет восхищаться стихами, считая их моими.
— Дай мне их! — сказал он. К ним хорошо подойдет музыка Гимна Риеги[Гимн Риеги (исп.Himno de Riego). Гимн назван именем генерала Рафаэль дель Риего и Флорес (1784 –1823) войска которого пели этот гимн во время восстания против короля Фернандо VII в 1820 году. Автор музыки гимна неизвестен, текст написал Эваристо Фернандес. Объявлялся официальным гимном Испании в 1820-1823, 1873-1874 и (931-1939 годах.]. И, взмахивая на каждый слог правой рукой, он повторил:
Августин в глубокой тишине
он прятал свой плач и видел
своей матери кроткую агонию
в груди ее грустную печаль.
Уязвленный, я открыл имя автора. Падре Бланко посмеялся еще раз. На вечере я не произвел никакого впечатления на дилетантов, хотя мне и аплодировали. Все-таки нужно, чтобы слава освободила место для творчества.
Келья, в которую мы поместили редакцию, укрыла немногочисленную компанию недозревших писателей, умевших писать куда меньше, чем талант высокомерно относиться к посторонним, с которыми мы не делились разговорами в нашем кружке. Никто не знал точно, как выразить на бумаге невысказанные слова. Были неофиты, стремящиеся быть вхожими в храм, в конце концов, некоторые добились этого — дружба приносит свои преимущества, но ценою невыносимой дедовщины. Вскоре они освоили наши правила на высшем уровне. Видеть их приходящими опустошать обильные запасы еды, вдохновляться алкоголем добытым контрабандой было привычным делом, все это завершалось песнями и излияниями в огромной дружбе. От этого больше страдало моральное состояние, чем все, что относилось к писательству. В такой обстановке нас застал врасплох падре-надзиратель, вечер был прерван.
Один ученик, наш старый товарищ, умирал. Врач заявил, что наука бессильна (он был такой тощий, видимо о нем говорится в одном из текстов учебника: «иногда мартовский ветер в Ла Лонхе опрокидывал его вверх ногами»). «Мы ничего не понимаем», — сказал ректору, выйдя из комнаты больного, дипломированный осел, последователь Скептической Медицины доктора Мартина Мартинеса[Мартин Мартинес –Martín Martínez (1684-1734), испанский медик и философ, новатор и просветитель, автор Скептической философии и Скептической медицины.]. Он велел подготовить все необходимое для перемещения души из одного мира в другой.
В нижней галерее я встретил скорбную процессию. Два ряда восковых свечей, монах осуществляющий соборование и группа серьезных учеников. Монах с прищуренными веками начал молитву:
— «Христос…»!
За ним следовало тяжелое многоголосое жужжание молитвы, постепенно теряющее голоса, пока не остался лишь один, который отчетливо произнес последние фразы. В крытой галерее шествие затормозилось, так как сопровождающие шли уже не так живо, потому что от переживания они еле влачили свои ноги. Свечи осветили мрачный коридор с высокими бегущими тенями на выбеленных известью стенах и красноватыми лицами на движущейся черной массе. При входе в келью, где пройдет соборование все расступились и встали на колени. В комнате наступило поразительное молчание. Двое учеников возбужденно спорили, кто из них разожжет свечу. Монах взглядом утихомирил их. Они склонили голову, дружно ударили себя по плечу и начали послушно молиться, затем продолжили спор, мешая причастию.
— … «вечная жизнь» — разнеслись по келье четко и мягко произнесенные слова. Чувствуя, как кровь течет по моим венам, я весь помрачнел и неохотно смотрел на помпезность происходящего, ощущал ужас от моего отвращения, а когда он возрос, то я едва мог выдавить из себя ниточку жалости к умирающему, перенесшемуся уже в сверхчеловеческую сферу, куда мои чувства не могли последовать за ним. Там мы оставили его. На лестничной клетке процессия сбилась в беспорядочную толпу и была поглощена потоком света и тенями. Двое учеников не отставая от других, возобновили толчками свой спор.
С наступлением вечера монах, пришедший звать нас на исповедь, остолбенел на пороге редакции. Дым заставил его моргать глазами и кашлять
— Разве вы не слышали колокол?
Отвратительные голоса, поднятые до самого верхнего регистра, ответили ему припевом из сарсуэлы. Он оглядел пустые бутылки и ущерб, нанесенный мебели.
— Вы все пьяные!
— Не все, отец.
— Отец без детей! Монах покраснел.
Вам не стыдно? Утром я дам вам причастие во имя спасения вашего товарища. Идите исповедоваться. Что за манера готовиться!
Он вышел последним.
—Иди в часовню, сказал он мне дружелюбно.
— Я не исповедуюсь.
—Что с тобой происходит?
― Я не исповедуюсь! Раздражительный тон моего отказа был оскорбительным.
Уединившись в келье, я поднял насколько мог пыл своей злости. Я предвидел тяжелую сцену, возможно жесткую или трогательную, если какой-либо монах будет решать это дело методом сердечности и убеждения. «Они не будут обращаться со мной, как с малышом» ― сказал я себе. Привел в порядок лучшее оружие — гордость и отшлифовал некоторые реплики, чтобы бросить их с высоты своего высокомерия и мужественности на ожидаемом разговоре. Но проверял себя напрасно. Мне ничего не сказали за те несколько дней, что я еще находился в школе. В глазах тех, кто более всего обрабатывали мою душу, уже не проявлялось сочувствие и удивление. Должно быть, я казался им белой вороной.
Теперь я пересмотрел манеры, поведение, вещи, на которые делал акцент в мои последние дни в Эскориале и признаюсь, испытал простоту и снисходительность их отеческого отношения. Терпели бы они меня, не будь я вещью очень дорогой? Наступившая Пасха открыла нам клетку. Я попрощался, не разбираясь с теми и другими, никому не сказав, что уже не вернусь.
XVIII
Наконец-то я покинул свою тюрьму: с уходом закончилась моя монастырская жизнь, казалось, что это мне снится. Монашеский корабль потерпел крушение. Он затонул, уйдя на глубину, где сгниет. Предчувствия того, что небезопасные останки кораблекрушения поднимаются наверх и снова плавают, должно было в таком возрасте вновь воспроизводить отжившие чувства. Уверен, тогда я верил, что являюсь существом исключительной свободы, не зная, что буду делать, господствуя над временем и дорогами мира. Душа моя жаждала быть чистой, такой же стираемой, как след от Эскориала, который был, на мой взгляд, полосой начертанной на песке. Смешное стремление, охватывающее любую цель, непостижимое будущее, пробудившаяся любознательность и восторг, что в итоге я свободен, заполнили радостью загроможденную всем этим сцену, внезапно открывшуюся моим глазам, не позволяющей ощутить ни ее протяженность, ни масштаб. Встроенная в дорогу судьба, которая действует на массы, уравнивая их общей участью, к моему счастью потерпела крах от трагического применения.
Апрель, самый и приятный и желанный, вновь наращивает войны с другими войнами. Студентов срочно вызвали в Университет, нам ускорили экзамены. Нация готовилась вступить в знаменательные события[23 апреля 1898 года Испания объявила войну США. В ходе боевых действий США захватили принадлежавшие Королевству Испания с XVI века Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины.]: завоевание Флориды, ограбление Нью-Йорка, зачистка океана от вспенивающих воду кораблей. Государство, все видящее, на все способное, хотело вложить в кампанию смысл, который оно имело — освободиться от незначительных обязанностей, чтобы не отвлекаться даже на полет мухи. Пусть студенты едут в свои дома и кричат там, в день победы! Пусть Его Величество, который ходит по обыкновению пешком, ликвидирует школу, тюрьму, больницу, министерство, заявив: «Эй, соотечественники, уходите отсюда, мы больше не будем беспокоить вас, начинается война, не будем тратить время», и он бы договорился с ними.
Некоторые из учеников Эскориала были зачислены в один из провинциальных университетов, и с одним из них я договорился поехать туда. На вокзале мы видели отправку воинского эшелона. Патриотизм, руководствующийся комиссионным вознаграждением, патриотизм неупорядоченной толпы — бурлил. Мы слились с народным психозом. Приятная небрежность, уже без ограничений, в том внезапном помрачении рассудка. Раскачивайся непреклонным тараном энтузиазм толпы! Перестаньте следовать веяниям коварного апреля, который прикидывается невинным и внушает наслаждение! Вдруг, без усилий, мы стали счастливыми. Теперь наша личная жизнь и жизнь испанца могли бы, сочетаясь, цвести и плодоносить, каждый человек и народ в целом могли бы беспредельно набивать цену на собственную самобытность, одолев, наконец, отчуждение и пагубное недоверие, что угнетали нас, по причине былых неудач. Великая история возрождалась. Мы приняли участие в необыкновенном действии, схожем с тем, о которых рассказывают книги. Плакали. Лица, искаженные эмоциями застыли в гримасе крика. Они оживились, повысили голос, когда прибыли работницы табачной фабрики, внучки, как установили газеты, героинь Второго Мая[2-го мая 1808 года в Мадриде началось восстание против наполеоновского присутствия в стране. Французы жестоко подавили выступление испанского народа, в числе жертв были молодые женщины, которым испанцы присвоили имя «Героини Второго Мая (Las Heroínas del Dos de Mayo)».], сиплые, как и их бабушки, правда они не толкали пушки. Мой товарищ, увязывая свои чувства с тем, что читал в библиотеке, едва тронулся поезд, закричал: «Да здравствует испанская пехота!». Он полагал, что новобранцы в несчастии покажут себя не хуже старых вояк.
В поездке мы вновь обсуждаем неизбежность осуществления прогнозов. Великолепная слава, как кульминация элементарной справедливости, уже восходила. От событий веяло давно прошедшими временами. Войска отправлялись на острова. Война в Карибском море? Тогда пусть Балеарские острова[Балеарские острова (исп. Islas Baleares) — небольшой архипелаг на западе Средиземного моря. Острова входят в состав Испании и имеют статус автономного сообщества, в составе одной (одноименной) провинции. Столица и крупнейший город — Пальма-де-Майорка.] обеспечат себя всем необходимым. То же самое практиковалось в великую эпоху, когда турки – янки того времени, хотели высадиться с большой эскадры. «Его величество, — здесь мы говорим, повторяя слова, Дон Кихота — поступил, как самый здравомыслящий воитель, вовремя подготовил свои владения, потому что враг не остался для него незамеченным». Враг не застанет нас врасплох.
Осталось только, чтобы католические монархии под влиянием Папы объединились с нами, чтобы победить в новой битве при Лепанто. Не могла остаться в стороне ни австрийская династия, родственная испанской, ни Его Святейшество, который уже поддержал нас в споре с Германией. Наконец, разве остаться в одиночестве препятствует победе? Враг поостерегся бы оказаться в пределах нашей досягаемости на земле. На море мы бы использовали корсаров, страшное средство. Та же Англия, если вступит в сражение со своим огромным флотом, придет в ужас от корсаров Испании. Мы убеждены, что Испания заслужит свои лучшие лавры в этом виде войны. Туда, где будут находиться огромные силы, давящие море тяжелыми бронированными машинами, придет неустрашимый испанец на своих проворных кораблях и силой находчивости и сноровки перехитрит неискушенных ученых адмиралов, и завоюет славу. Насколько блистателен и прозорлив испанский гений! Партизанские отряды Испании изгнали ненавистных французов. Вот так и на море, корсары смирят англосаксонское высокомерие.
По счастливой случайности в городе, где находился университет, нас, встретили ученики Эскориала с опекавшим их монахом. Мы приложились к ямочке на священной колонне, образовавшейся от бесчисленных поцелуев, как гарантии покровительства небес. Монах перевел латинскую надпись, выбитую у подножия изваяния льва — «intus ego», — «вижу тебя насквозь»[Ego te intus et in cute novi – дословно «Знаю тебя и под кожей и снаружи», т. е. вижу тебя насквозь. Выражение взято произведения римского поэта Авла Персия Флака «Сатиры».], память о стойких людях, которую венчает щербинка — след, нанесенный французскими пулями. Город испарял влажный жар очень бурной весны, его запахи были сродни желаниям молодых людей возвеличенных в иллюзиях школьников. Летающие повсюду слепни свирепо жалили, заставляя кавалеров беспрерывно подпрыгивать, выводя их из нарциссизма и созерцательной лени. Говорили о сражениях, думая при этом, здесь в Наварре о жительнице Кордовы Коралите.
Новости с войны поддерживали патриотический восторг, мы ликовали, услышав, что в стране врага, жители побережья бегут вглубь. На это не удивляло. Особую роль сыграло объявление о первой победе: «Два корабля янки потоплены!» Прогнозы сбываются. Базилика изрыгала набожных людей, которые купив газету, рассеивались в душном вечере, почерневшем от штормовых облаков. Какой-то генерал проехал верхом, ему аплодировали. Ночью я вел ужин, сидя по правую руку от монаха, это был метафизик с самой длинной бородой и если не самой объемной в Испании. Он зачитал телеграмму из Манилы: «Выхожу в море с эскадрой, чтобы занять позицию для поиска врага». Одобрительные возгласы. Аплодисменты. У монаха подрагивали щеки. Борода метафизика направо и налево мела по тарелке с клубникой, отчего на волосах оставались ярко-красные капельки. До самого позднего часа мы слышали из театра грубое пение хоты[Хота – национальные испанские песня и танец.].
Какие слезы проливал потом монах, когда все провалилось! «Так много островов, столько тысяч морских миль, столько миллионов подданных! Испания не понимает, что теряет!» Его расстройство придавало событию оттенок личного несчастья. Учащиеся, сбитые немного с толку ни о чем не горевали.
С географическими картами теперь играли, радуясь беззастенчиво в будничных развлечениях: — «Ты, Пака, будешь метрополией, которая тиранит свои колонии, стремящиеся к освобождению», — говорит ученик, считающий себя большим политиком, глядя на женщин. Они не жаждали этого и казались великодушными и покорными. У той, что из Кордовы были маленькие ножки, изящные лодыжки, зеленые глаза, волосы черные как смоль, бледное загорелое лицо, а ее игривость маленького зверька не соглашалась хранить секреты. Толстушка из Наварры походила на богиню Юнону пониженной в своем звании. Та и другая имели свои манеры. Даже будучи мертвыми, их суетливость не обещает быть меньше. О них не пишут рассказы, а иные мужчины, отдыхавшие на их руках, не вспомнят для собственного блага. Память с благоговением воскрешает этих женщин в своей обстановке: тенистый двор мадам Пака, француженки из Барселоны, скамейки, недавно выкрашенные в зеленый цвет, отраженные с улицы солнечные лучи, тишина спален, их острый соус.
XIX
Последняя беседа в саду
«Блудный сын? О, нет!»
Двое беловолосых монахов неторопливо гуляют в Галерее под ласковыми лучами февральского солнца. Над этим уединенным местом сада, царит клокотание родника под аркой, покрывая его рокотом или торопливым бурлением, иногда гневным, в другой раз насмешливым, прерываемый трезвоном, хохотом, свистящим дыханием, треском рвущегося полотна. Сад живет родником, в тех пределах, что наполняются его шумом. Звонкая вода, разливая в тишине свою песню, вливает в вечную безмятежность струю поддающегося измерению времени. Если вода веселая (о чем-то посмеивается поток воды) то, почему же меня печалит ее рождение живым существом? Источник определяет уровень этого уединения и тишины выходящие далеко за пределы сада, тщетно подвергаемые ласкам созидающих лучей. Вспыхивают медным светом призмы самшита, блестят шифером крыши, гребни гор окрашиваются в синий цвет. Сад изнемогает и никнет под манящими лучами солнца. Но пламя, к вспышке которого стремится поток света, никогда не вознесется. Пруд по-прежнему, блестит обнаженной красотой своей глади, которую он предлагает небесам, чтобы они насладились ею. В другое время, когда пруд остается без воды, он не смог бы пробудить наше воображение.
Смотрю, как монахи ходят мелкими шагами по Галерее. Не мои ли это учителя? Их седины свидетельствуют о течении времени. Монахи приостановились. Один потрясает над головой воображаемым дротиком и позволяет, наконец, опуститься невооруженной руке. Жест, отработанный на кафедре, раскрывает мне имя его автора — это падре Мариано. Подобным движением он подчеркивает свое суждение, очередное пророчество.
— Падре Мариано! Падре Мариано! Я здесь. Вы не помните меня?
Поднимаюсь бегом ему навстречу. Может быть, эта встреча доставит мне чувства, которых в этот день я не нашел: ведь люди, прежде самые любезные, теперь не разговаривают со мной, они меня не узнают. Увидев меня, они приобретают независимый вид, отступают, как будто бы никогда меня не знали. Но, я же их не выдумал? Что за расхождение встало между ними и мной, и отделяет нас? Выдуманное измышление. Память об одном уничтоженном создании была тем колдовством, которое проверкой действительностью было рассеяно. Нет никакой побудительной причины, чтобы я столько себя вложил в замечательную церковь, в сад, в тополя. Картина Святого Маурисио[Картина Эль Греко «Мученичество Святого Маурисия», написанной им в 1580-1582 годах. Хранится в монастыре Сан Лоренцо в Эскориале.] поражает меня, как живопись, а не по какой-либо другой причине. Мои друзья тополя постарели меньше чем я. Школьник, сменивший меня в келье, которому я безвозмездно предоставил свое бывшее владение, сидит в оконном проеме и загорает на солнце, перебирая струны бандуррии[Бандуррия (исп. bandurria) – вид гитары.]. Ему предстоит двадцать пять лет нести испытание. Хорошо уложенная жимолость покрывает стены школы, не хватает лишь кретона, «tea-room», и «golf»[Кретон - полотняная ткань для обивки стен; tea-room (анг.) — чайная комната; golf (анг.) — гольф. По мнению автора, атрибуты примитивности и пошлости.], свидетелей господства тривиальности. Верхний домик сохраняет угрюмость пустого любовного гнездышка. Свечой стоят ангельские фигуры новых кипарисов. Рыбы в пруду устремляются огненными лучами от илистого дна к кусочку хлеба. Они рыжевато-красные, серебряные, золотые, а рыба-начальница облачилась простодушно в стихарь из узорчатого тюля. Монахи-послушники наблюдают, как и я за плаванием рыб.
— Птицы тоже женятся, летая, — воскликнул не очень просвещенный послушник, подводя итоги своего наблюдения. Я удалился, не разочаровывая его, и возвратился в сад.
Источник час за часом смеялся над моим разочарованием. Встретил падре Мариано сгорбленного, морщинистого и тощего. Его облик, преждевременно состарившегося человека выражает лишь одно чувство — сильное недоверие. Плохо сдерживаемый непонятно откуда взявшийся трепет охватил меня.
«Уже грею спину на солнышке», — сказал он мне, отвечая улыбкой на мои любезности. Улыбка больше выражает печаль и любовь, чем безразличие к жизни. Вижу, что для своего возраста он сохранил еще силы и веду себя с ним по-простому. Скрепя сердце, скрывая горечь, повествую ему свою доблестную историю. Необычная радость захватывает меня, взамен ожидаемой печали и умиления, а также желание отмочить какую-нибудь школьную дерзость.
— Вы помните великую поэму о Святой Монике, которую хотели навесить на меня?
Мы смеемся. Падре Мариано отвечает мне доверием, к нему возвращается его старая привязанность, он интересуется моими перипетиями от их начала и направленностью моей души. Он так меня любил! Он столько возлагал на меня надежд!
— Ты чем занимаешься?
— Гуляю по Мадриду. Дома курю и витаю в облаках.
— Ты всегда был ленивым.
Прошу меня простить за то, что я не стал депутатом, министром, послом, что не выступаю защитником в суде. Похоже, мне должно быть очень стыдно, что я растратил свои способности на шалопайство.
— Ты не женился? Тебе это запрещает Институт Свободного Образования[Институт Свободного Образования (исп. la Institución Libre de Enseñanza) — педагогический проект, осуществлявшийся в Испании на протяжении полувека (1876-1936). Оказал важное влияние на интеллектуальную жизнь Испании.]…
— Я далек от мысли о семье, но и холостяцкую жизнь я не поддерживаю. А вы, падре Мариано, далеко продвинулись. В мое время здесь не говорили об этом институте. Возможно, тогда вы были менее активным членом этой организации.
Падре Мариано с сочувствием относится к моей судьбе, я догадываюсь об этом. Он с удовольствием служил бы мне поводырем, если бы я признался ему в слепоте. Меня это не задевает, гордость уступает рядом с монахом, которого я обнимаю мимолетом с его неприемлемыми для меня идеями в порыве симпатии. Хотелось тискать его в своих руках, много смеяться обо всем и о нас в первую очередь.
— Падре Мариано! — начал я говорить ему. — Будем ли мы всегда друзьями? Все то, что было до сих пор… до сих пор…! Разве это уже не другая жизнь? Лучше раствориться в сострадании, которое вознесет нас к вечности.
— А тебе не все равно?
— Наоборот. Любовь к жизни возрастает через силу и благородство со зрелостью духа
Чем больше человек создает и имеет, тем больше он должен воспитывать в себе нравственную чистоту к обладанию многим, и тогда юношеский эгоизм начнет одобрительно относиться к проявлению нежности, к почитанию любезных сердцу обетов. Для вселенского сострадания душа желает быть вечной и наслаждаться прозрачной глубиной воздуха, в котором все возникает и облекается им, биться со страстным желанием моря, с которым оно формирует береговые линии, такие изрытые, но без шрамов. Если бы вы обнаружили во мне подобное качество, падре Мариано, то я не был бы, как выдумаете, неудачником. Говорю это, не упрекая вас и без обиды, падре Мариано. А кроме того у меня достаточно благоразумия. Я вырубил то дремучее в моей душе, что не вписывалось в общие претенциозные признаки образования. Неприкосновенность личной жизни мне казалась порочной. Твердая речь, жесткий план для меня и мира – это наилучший способ правления. А против мятежных сил несогласных с деспотизмом образа мыслей выступать с энергией инквизитора и сектанта, при условии, что никого кроме меня не будут преследовать, и не используют меня для разбрасывания соли на плодородную землю[Ритуал засоления плодородной земли использовался в древности завоевателями, как проклятие того места, которое доставило много хлопот при его захвате. Считается, что соленная почва уже не в состоянии давать урожай.].
— Твои слова меня огорчают. Гордость ослепляет тебя, как никогда.
— Каким образом?
— Дать сознанию раствориться в пантеистической неопределенности означает уничтожить из-за слабости характера нравственную христианскую дисциплину. Христианская дисциплина жесткая. Существует лишь один Бог человеческий, сын мой. Ты тоже человек, имеющий свои пределы и ответственность. Для того чтобы твой жесткий план был законным и обязательным он должен основываться не на страхе и наказании, а ориентироваться на Закон Божий. По твоим словам вижу, что сохраняешь духовную форму, но содержание ты отринул. Это то, что тебе дали здесь. Не помнишь?
— Во мне это оставило горький осадок.
— Ты спокоен внутри?
— Почти всегда.
— Это хуже.
— Я не покойник, падре Мариано. Спокойствие приходит от успокоения меня в практической деятельности. Что я еще об этом знаю?
— Обязательно нужно выходить за пределы практики. Сражение с ангелом тебя спасло бы.
— От рождения меня сопровождает одна личность, но это не должен быть ангел, так как бесконечно ворчит и недоволен мною, как будто бы я мог дать ему лучшую жизнь, и почему то не сказал мне кто он и что ему от меня нужно. В конце концов, он мне уже надоел. Я бы с удовольствием прикончил его, но я не могу. Отталкиваю его ногой, а он извивается, как Сигизмунд[Герой пьесы «Жизнь это сон» (исп. La vida es sueño) испанского драматурга Педро Кальдерона де ла Барка, впервые представленная в 1635 году.] на башне перед тем, как предаваться мечтам о своем королевстве. Он чудовище. Я могу лишь смеяться над ним. Бог дает тебе прислушаться к чудовищу, чтобы однажды ты стал нашим блудным сыном.
Падре Мариано ушел.
Стою один на краю сада, уже похолодало. Трое монахов бродят по монастырскому саду. Их худощавые черные силуэты невесомы, они плавно размахивают руками, что-то говорят, смотрят на землю. Они натянули капюшоны, северный ветер пронизывает их и меня. Вдали поднимается хребет покрытый снегом и розовым цветом.
Над ярко-красными могильными холмами
безмолвие выкраивает траурные одежды.
Это закат.
1920-1926 |






